Дядя рассказывал про блокаду Ленинграда
Кукуфс 05 Октября 2013 в 00:27:27
1. Пещерный быт блокады.
Перед войной часто устраивались учения ПВО. Мы уже привыкли к тому, что люди носят сумки с противогазами и только опасались попасть во время этих учений на носилки - как пострадавшие или раненые - чревато было потерей времени до конца учений.
22 июня 1941 года началось с солнечной, теплой погоды. Мы с папой и старшим братом отправились в город, на очередную прогулку-экскурсию. Папа обычно водил нас по городу и показывал интересные уголки.
Сообщение Молотова мы слушали в начале Большого проспекта ВО. У всех, кто стоял рядом, появилась какая-то озабоченность, большинство было потрясено. Запомнилось на всю жизнь, как папа грустно сказал: 'В какое интересное время мы живем!'
Начиная с июля месяца, стали собирать цветные металлы, лопаты. Этим занимались в нашем домоуправлении и мы - мальчишки и подростки были на подхвате.
На крыше нашего дома установили счетверенный зенитный пулемет. Расчет был из пожилых (с нашей точки зрения - стариков). Нам они разрешили помогать и мы с энтузиазмом таскали на чердак ящики с патронами. Ну не совсем таскали - ящики были маленькие, но очень тяжелые, поэтому приходилось вдвоем - втроем кантовать ящики со ступеньки на ступеньку.
Могу только представить себе, как тяжело было солдатам затаскивать на крышу счетверенный максим, да еще и с тяжеленной опорной тумбой. Дом наш был семиэтажный, дореволюционной постройки - 'Перцевский Дом' - он и сейчас стоит на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Собственно это даже не дом - это целый квартал, построенный братьями Перцевыми в 1917 году, причем в нем были запланированы магазины, гостиницы, театр и разных категорий квартиры на сдачу. Здоровенный доходный дом-комплекс. Он был в ведении Управления ЖД Октябрьской и Кировской и жили там семьи железнодорожников, а после волны репрессий в конце 30 годов - и НКВДшники., въезжавшие в освободившиеся после ареста комнаты. Жизнь у них видно тоже была интересна - в самом начале войны один из них застрелился из охотничьего ружья прямо у себя на балконе - так что его было видно с нашей кухни. Столько кровищи из него натекло - я даже после артобстрелов такого не видел.
О размерах дома судите сами, если в 1941 году в доме жило около 5000 человек. Квартиры, естественно были коммунальными. В рассчитанные при постройке дома на 1 семью среднего достатка комнаты селилось по 3-4 семьи. Высокие потолки в блокаду сыграли свою роль - таскать все по лестницам - с большими маршами - было очень сложно.
Потом мы таскали песок на чердак. Там же видели, как все деревянные части тщательно промазывали какой-то жижей. Говорили, что это убережет от пожаров, если будут бомбить наш дом зажигательными бомбами.
Песок таскать было легче, чем патроны, но не так интересно. Все это мы делали добровольно. Опасность, которая витала в воздухе, подстегивала нас помогать взрослым.
С каждым днем становилось все тревожнее. В городе появилось много беженцев, с мешками, узелками, некоторые с коровами. Вид у всех был пришибленный.
Мгновенно исчезли продукты, появились карточки.
Начались бомбардировки. Сгорели Бадаевские склады, также немцы прицельно били по тем местам, где были рынки. Неподалеку от нас была барахолка - по ней тоже досталось.
Помню, вечерело, светило солнышко, а на полнеба был гигантский шлейф черного дыма -от горящих Бадаевских складов. Страшное и дикое зрелище. От такого вида становилось жутко.
Очень тревожило стремительное продвижение немцев. Совинформбюро было немногословным, но тревога росла, чем дальше, тем больше. Похоже, что не было силы остановить эту стремительно прущую лавину.
Папа был направлен на строительство оборонительных сооружений.
Изредка он заезжал домой и привозил с собой то пшена, то чечевицы.
(Забавно видеть сейчас в магазине продающуюся по высокой цене чечевицу - в то время чечевица считалась фуражом для лошадей и то, что мы стали ее употреблять в пищу, тоже было знаком беды.) Папа не распространялся о том, что ему приходилось видеть, но чувствовалось, что положение у нас аховое. Он как-то высох, почернел, был весь в себе. Визиты были очень кратковременными, иногда спал пару часов и снова уезжал.
В конце июня нашу школу эвакуировали в деревню Замостье, километрах в 10 от ст.Веребье. Окт. Ж.д.
Как моя мама ни противилась этому, мне пришлось ехать. Мама попросила соседку, поехавшую вместе со своими сыновьями-близняшками, чтоб соседка и за мной присмотрела. Мне кажется, что в этой эвакуации я пробыл от силы недели 3, а то и меньше. Я не говорю о том, что бытовая сторона была плохо подготовлена. Спали в избах на соломе. Питание тоже было убогое и есть хотелось.
Соседка устроилась получше, да и детям своим еду прикупала, да и готовила им сама.
Одним прекрасным вечером, когда мы вернулись с работы по прополке грядок от сурепки, произошло примечательное событие - вдоль главной деревенской улицы стремительно полетел немецкий самолет очень низко, на бреющем полете. Отлично его разглядели. Я тут же написал об этом в письме домой. Через несколько дней за мной приехал брат и мы вместе с соседкой и ее близнецами отправились домой. Администрация школы, бывшая там же в деревне особо этому не противилась.
На станцию шли ночью - днем немецкая авиация уже вовсю расстреливала все, что двигалось по дорогам. Через определенные участки пути останавливали дозоры - проверяли документы. Соседка устроилась с детьми на возах с сеном, ехавшими тоже на станцию, а мы с братом шли и пели шуточную песню про 10 негритят, которые пошли купаться в море и почему-то тонули один за другим.
На следующий день уже ехали в поезде в Ленинград. У станции Малая Вишера увидели из окна распластавшийся на насыпи немецкий самолет. Падая, он повалил с десяток телеграфных столбов.
Оказаться снова дома было счастьем. Все время эвакуации я ни разу не мылся в бане, да и кормили плохо, все время есть хотелось. Работали мы на прополке сурепки. Мощный цветок - размером с нас. Красивая такая, а вот на пропалываемых грядках чего-то ничего не было, кроме этой сурепки...
Чудово немцы захватили 21 августа. Значит, мы проскочили с братом за пару недель до этого. Что случилось с остальными детьми, оказавшимися под немцем - не знаю. Но вряд ли многие из них выжили, с теми одноклассниками, что там остались я потом не встретился..
Папа был на оборонных работах, мама тоже на работе, брат выполнял какие-то поручения домуправления. А я играл с ребятами на дворе, рядом с работой мамы. (Когда в этот дом попала бомба, нас к счастью рядом не было.) Возвратился на некоторое время папа. Рассказывал, что на дороге много разбитой техники, авиация немцев свирепствует, буквально ходит по головам, гоняется даже за одиночками и без всякой пощады расстреливает беженцев, хотя с бреющего полета отлично видно, что это не военные. На дороге по обочинам множество трупов - женщины, дети, особенно ему запомнились учащиеся 'ремеслух' - мальчишки-подростки из ремесленных училищ жались друг к другу - их трупы лежали буквально кучами. Это почему-то его потрясло особенно.
Он был в подавленном состоянии, мы его таким никогда не видели, он был очень сдержанный человек. Впрочем, долго отдыхать ему не пришлось - оборонительные сооружения продолжали делать - уже на ближних подступах, а как специалист он ценился (у него не было высшего образования, но был богатый опыт работы на инженерных должностях, до войны он работал в отделе по ликвидации последствий аварий на Кировской железной дороге, перед самой войной перешел на другую работу поспокойнее, потому что в отделе многих посадили, да и возраст уже - ему было 55 лет.)
В это время уже начались регулярные артобстрелы.. В основном ударам подвергался район площади Труда и мы с мальчишками бегали туда собирать осколки. На кой черт они нам были нужны - непонятно, но собранным рваным железом гордились, глупенькие коллекционеры. Потом это быстро прошло, новизна очень скоро закончилась.
Однажды вечером (конец августа - начало сентября) я был на углу Гоголя и Гороховой. Уличное движение регулировала низенькая полная девушка в военной форме и какой-то плоской каске. Как только прозвучал сигнал воздушной тревоги, пронзительно что-то провизжало - я еще успел заметить, как что-то косо мелькнуло в воздухе. Бомба попала в особняк известной графини рядом со стеной соседнего дома (там потом была здоровенная брешь). Успел еще заметить, как регулировщица комично пригнулась.
Интересно, что рядом с этим местом во время взрыва проезжал троллейбус - там он и остался. Я быстро убрался в ближайшее бомбоубежище, а после отбоя ВТ на месте взрыва на месте клубилось большое облако дыма и пыли. Говорили, что немцы сбрасывают какие-то комбинированные бомбы. Выла эта бомба премерзко.
Забавно, что сейчас утверждают, что это здание в блокаду не было повреждено - читал недавно в книжке - а у меня на глазах в него попала бомба... Была там к слову медчасть НКВД...
В это время были беспрерывные бомбежки по ночам. Мы несколько раз спускались по темной лестнице в подвал, куда нас пускали постоять в коридоре те, кто там жил. Так мы спускались несколько раз за ночь вниз. А потом так же по темной лестнице лезли обратно на свой 4 этаж ( по высоте соответствует 6 этажу современных зданий - чтоб понятнее было.)
Потом мы отказались от такого удовольствия, решив, что суждено - то и будет. Да и папа оценил защитные свойства нашего подвала очень низко.
На сигналы тревоги не реагировали, как спали, так и продолжали спать.
Налеты производились большим количеством самолетов. Если и оказывалось какое-то сопротивление - то я его не видел. Несколько раз я выходил во двор во время воздушных тревог - это были лунные ясные ночи и на высоте звучали характерные звуки моторов немецких бомбардировщиков - одновременно какие-то занудные и тревожные.
Наших истребителей я что-то не слышал и не видел. Зенитки - те тарахтели и иногда и 'наш' пулемет стрелял...
Потом в ходу было шуточное подражание диалогу зениток и бомбардировщиков:
- Везу-везу-везу...
- Кому-кому-кому?
- Ваммм...Ваммм...Ваммм
Слухи в это время ходили самые разные, а то, что было много раненых еще и усугубляло ситуацию. Скрыть такие количества было сложно. Многие школы экстренно занимались под госпиталя. Об учебе и речи не было - в нашей школе был пункт для проживания беженцев, а в соседней тоже был развернут госпиталь, и там полно было наших раненых. Правда несколько школ - очевидно непригодных для таких целей и в блокаду работали как школы.
Беженцев тоже было много, а в связи с блокадой им и деваться было некуда. В основной массе они были из сельских районов, и в городе им пришлось несладко. Полагаю, что большей частью они погибли в блокаде - на нерабочих пайках, без поддержки соседей и родных в промерзлых школах выжить им было практически невозможно.
Другой категорией практически полностью погибшей - были мальчишки из 'ремеслух'. В основном они были иногородними, жили в интернатах и по большому счету никому не были интересны - для работы - недоучки, а по возрасту уже не дети. А умишки-то еще детские. Да и руководство у них тоже отличилось - я слышал, что было несколько процессов с расстрельными результатами, потому что руководство 'ремеслух' занималось колоссальными махинациями с продуктами, предназначенными для учащихся.
Один из типажей, характерных для блокады - обезумевший от голода подросток-ремесленник.
Даже наша семья с этим столкнулась...
Каждый день приносил новые - и все время плохие новости. А я ходил с мамой на работу и с нетерпением ждал времени, когда пойдем в столовую (угол Гороховой и Мойки) - есть так называемый дрожжевой суп. Жидкая мутная похлебка с твердыми крупицами неизвестного происхождения.
До сих пор вспоминаю с удовольствием. Когда мы стояли в очереди - по большей части на улице - мы, конечно, подвергались опасности попасть под артобстрел, но нам везло, снаряды падали в это время в другом районе.
По дороге на работу с каждым днем добавлялось все больше разрушенных бомбами домов. Разнесло дом Энгельгардта. Прямым попаданием разрушило дом напротив дворца Белосельских-Белозерских...На меня очень гнетущее впечатление произвело разрушенное здание на углу Гоголя и Кирпичного переулка. Все здание рухнуло, кроме одной стены.
Из-за того, что она была очень неустойчивой, ее завалили прямо при мне, зацепив ручной лебедкой. Лебедка стояла в подъезде Банка. Было здание - и нету. Ни о каких спасательных работах и речи не было - там за жидким деревянным забором на разборке поработало полтора десятка девушек из МПВО. Да и работали они несколько дней. А наверху - на каком-то огрызке перекрытия осталась стоять кровать.
Вечером возвращались домой. Брат к этому времени что-нибудь уже выкупал по карточкам. Ужинали уже втроем. Состояние было такое, что немец неотвратимо будет захватывать город.
У меня было два стальных шара от шаровой мельницы, диаметров 60-70 мм. Я прикидывал, как только немцы появятся во дворе - я эти шары в них брошу...
Все-таки в 10 лет мальчишки глупенькие...
А у мамы на работе я занимался тем, что решал задачи по арифметике за 3 класс - с помощью арифмометра. Это было очень занятно! Что-то читал. Ничего не запомнилось, вероятно, потому, что все мысли были о куске хлеба.
Интересно то, что когда человек просто проголодался - он мечтает о чем-то вкусном, каких-то блюдах сложного приготовления, а вот когда голодает уже серьезно - тут все мысли именно о хлебе - убеждался по многим блокадникам. Мой сосед - Борька - до голодухи мечтал о том, как ему после войны купят 'тогтик' (он был картавым), а потом уже - как задистрофел - и до своей смерти в декабре - мечтал только о 'хлебце'.
И в семье моей будущей жены - то же самое было.
По-прежнему никакой информации о положении на фронте. Совинформбюро скупо сообщало о сдаче городов. А что творилось под Ленинградом - было совершенно неизвестно. Хотя рокот канонады звучал все время и было понятно, что это и город обстреливают (что погромче грохало) и под городом идет жуткая молотилка.
Сообщения типа 'На Ленинградском фронте Нская часть провела успешную операцию. Убито 500 солдат и офицеров фашистских захватчиков, уничтожен 1 танк' никакой ясности не давали.
В городе все передавалось шепотом из уст в уста. Здесь была и правда и вымысел, но как ни старалась наше руководство, всем было ясно - положение очень тяжелое, может быть даже катастрофичное.
Дома начались новые проблемы - с ноября как-то вдруг стало очень холодно. Папа заранее позаботился, достав нам буржуйку - жестяную печку и трубы. Мы одни из первых установили эту печурку и могли и обогреться и вскипятить чайник и еду подогреть. Дело в том, что до войны пищу готовили на керосинках и примусах. Для этого использовали керосин. Но осенью керосин кончился.
Встал вопрос - где брать дрова? Брат вооружился фомкой - коротким ломиком - и во время своих походов добывал какое-нибудь дерево - чаще всего притаскивал отодранные откуда-то доски. На плечи брата - ему было на пять лет больше, чем мне - легла основная нагрузка. Я сейчас содроганием думаю, как же ему было тяжело, он буквально вытягивал семью, добывая дрова, выкупая хлеб, съестное. Как ему хватало сил? Со мной он был суров и требователен. Он вообще был образцовым. А я был разгильдяем.
Встал водопровод в ноябре. Отопление естественно тоже отсутствовало...
Вот тут мы и убедились - чем больше благ цивилизации, тем тяжелее от них отказываться. Мы стремительно скатились буквально в пещерный уровень быта.
Надо отметить, что чем примитивнее люди жили до войны - тем им легче было в блокаду. Недавно видел воспоминания актера Краско - его семья жила на окраине в деревенском доме со стороны финской части блокады. Так они вошли в блокаду с туалетом, колодцем, дровами, своей нормальной печкой, огородом и запасом еды с этого огорода. У них сначала даже молоко было.
Ну и немецкие дальнобои и авиация по ним не долбали, а у финнов возможностей обстреливать и бомбить не было - выдохлись они уже к тому времени.
Также чуть легче было тем, кто жил в домах с печным отоплением. Таких домов в центре и сейчас много. А наш дом был передовым - с центральным отоплением. Водопроводом. Электричеством. Канализацией.
И все это кончилось.
Единственно хорошее - бомбежки практически закончились. От падения бомб наш домина качался как корабль на волнах (никогда бы не подумал, что такое возможно, и он при этом не развалится). Напротив нашего дома упало три бомбы двухсотки. Первая разнесла вдрызг пивной ларек. Вторая влетела в шестиэтажное здание напротив. Третья - через дом. Говорили, что якобы их сбросила немецкая летчица, ее сбили и взяли в плен.
Зато артобстрелы стали чаще и длились дольше.
Я должен был таскать воду и выносить нечистоты в 'параше' - ведре. Для меня это тоже была приличная нагрузка, я сильно ослабел от голода и холода и слабел с каждым днем больше. Голод не давал и заснуть, мучила бессонница. Хотя ложился спать одетым и накрывался несколькими одеялами и пальто, согреться было очень сложно. Ни бомбежки, ни постоянные обстрелы так не изнуряли, как холод и голод. Сна как такового не было. Было пунктирное забытье.
Очень давило отсутствие света. На день от светомаскировки открывали кусочек окна. Но в ноябре у нас день короткий и в основном пасмурно. У меня скоро появилось забавное явление - когда смотрел на источник света - коптилку, печку - все было с радужным нимбом. К грохоту разрывом мы очень быстро привыкли - когда было тихо - это удивляло, но немцы постоянно долбили по городу, так что где-нибудь да грохало.
А вот к голоду и холоду привыкнуть было невозможно. Болело и ныло нутро и все время была какая-то мерзкая изнуряющая дрожь. Хотелось что-нибудь погрызть, пососать.
В нашей семье каждая пайка делилась на три части. (Трехразовое питание). Когда получал очередную треть, резал ее на тонкие пластики и эти пластики прикладывал к раскаленной стенке буржуйки. Сразу образовывалась корочка. Такой ломтик даже не жевался - сосался, и корочка позволяла продлить действие, обмануть себя - вроде как долго ел - значит много съел. С несколькими такими ломтиками выпивалась кружка кипятку, а если можно было - то какой-нибудь 'заварушки'.
Все что можно было съесть в доме - и несъедобное по мирным меркам - все было съедено.
Мы довольно долго ели студень из столярного (казеинового) клея, благо папа сделал запас из 10 плиток. Мама готовила студень с лавровым листом и теми специями, что нашлись в доме. Когда мама готовила очередную порцию студня, был праздник. Студень раздавался небольшими порциями. Не могу сказать, что даже в то время был вкусным. Но все ели с удовольствием.
Пытались варить ремни, но у нас ничего из этого не вышло - потом узнал, что есть можно только сыромятную кожу.
На дрова шла мебель. Меня удивляло, что брат плакал, когда колол и пилил нашу мебель. У меня не было никакой жалости к вещам, лишь бы хоть ненадолго погреться.
Когда читаешь книги о блокаде, узнаешь, что битва за город шла все время, не переставая, не считаясь с потерями. Наши остервенело пытались прогрызть немецкую оборону, немцы так же не считаясь с потерями пытались удавить город. Мы же практически жили не ведая, что происходит у стен города. Только грохотало все время.
Каждое утро, пока были силы, я вставал вместе со всеми. Задача принести воды - я таскал в трехлитровом бидоне - была для меня очень тяжелой. Главное, что хлебные нормы выдачи по пайку все время уменьшались, уменьшались и силы. Мы еще раньше решили, что мне больше не стоит ходить с мамой на работу. Я стал оставаться дома.
Воду сначала брал в колонке во дворе. Таскать бидон наверх с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее, хорошо хоть колонка была во дворе. Вот нечистоты таскать было проще - во-первых, тяжесть несешь вниз, а во-вторых, нечистот с каждым днем становилось все меньше и меньше, в точном соответствии со старой медицинской поговоркой: 'Каков стол - таков и стул'. Стол был крайне убогий - соответственно и стул усох до минимума.
Недавно читал воспоминания о блокаде сотрудника Эрмитажа. Его приятель, успевший эвакуироваться до блокады, потом ему рассказывал, что ему изорвали все книжки в библиотеке и нагадили кучами дерьма, чуть не слоем на изорванные книжки... Как-то странно - и то, что книги изорвали, а не сожгли и главное - откуда столько дерьма взяли...
Мы сливали нечистоты в ливневой колодец на заднем дворе за домом.
Чем холоднее становилось, тем большее время я проводил в постели - ноги плохо слушались, да и делать, в общем-то, было нечего.
Печку топили два раза в день - вскипятить воду. Дров не было. Мебель почти всю сожгли, а брат много принести не мог.
Однажды он пришел вечером страшно взволнованный. Ходил за хлебом, была как всегда очередь, покидать ее было нельзя, с хлебом были перебои, и потому с пайком он шел в уже полной темноте. (А темно было везде - на улицах, во дворе, в подъезде, на лестнице, в квартире - света же не было. Многие носили специальные значки, вымазанные фосфорной краской и тускло светившиеся поэтому - чтобы друг на друга не натыкаться.)
Говорит маме: 'Я, наверное, человека убил. На меня в подъезде напал ремесленник, хотел хлеб отнять' Брат ударил напавшего фомкой по голове и тот упал. Даже я почувствовал серьезность момента.
После некоторых раздумий мама пошла проверить.
Возвратилась радостная - ремесленника в подъезде не оказалось!
Все вздохнули с облегчением.
Комната от нашей коптилки и буржуйки скоро вся закоптилась. Да и мы тоже. Стала замерзать вода. Стало совсем не до мытья, да и колонка, поработав с перебоями, отчего приходилось и ходить чаще и ждать на морозе, умерла совсем. Пришлось искать другие источники воды - а это и путь длиннее и идти больше, больше сил расходовать.
Бесперебойнее всего работала колонка в подворотне школы ? 205, что на Кузнечном переулке. Даже в сильные морозы там можно было добыть воду. Пишу 'добыть' не случайно - ослабевшие люди и расплескивали воду и разливали свои посудины, падая на буграх льда вокруг колонки - и льда становилось все больше. И подойти к колонке было трудно, и особенно трудно было вынести воду, не разлив.
Несколько раз приходилось набирать снег, но у талой воды был противный привкус мыла.
По лестнице идти тоже стало труднее. Ведь не я один таскал воду и нечистоты. И разливали и роняли... И все это замерзало на ступеньках.
Мороз-то был неслыханный. Правда благодаря этому морозу заработала 'Дорога жизни'. Думаю, что без нее не выстояли бы - на баржах столько б привезти не получилось.
С возрастом, чем дольше я живу, тем сильнее чувствую вину перед братом, за то, что во время страшного голода я ненавидел брата за то, что он по решению мамы отрезал себе хлеба чуть больше - на несколько миллиметров - чем мне и маме. Я сидел рядом и как затравленный зверек смотрел на ломтики хлеба. А у него ломтик всегда был больше - на несколько миллиметров!!!
Внутри все кипело и негодовало, хотя я прекрасно знал - что если что-нибудь случится с братом - нам конец.
Вот ведь - тебя спасают из последних сил, рискуют своей жизнью, а ты ненавидишь своего спасителя. Хотя ты - без этого спасителя - ничто.
Сколько же всего брат вытянул на своих плечах....
Я уже не мог затаскивать воду на четвертый этаж без того, чтоб не помогать себе руками, подтягивая тело, держась за перила. Идти не получалось, ноги были ватные и как-то словно онемели, практически втягивал себя на каждую ступеньку. Всякий раз, когда шел за водой - проходил мимо горящего дома - разбомбленное задание на углу Разъезжей улицы горело практически месяц. Неторопливо, размеренно - сверху вниз... Внизу располагалась библиотека - и библиотекарши вытаскивали книги на улицу, просили прохожих забрать кто что сможет - чтоб книги не сгорели. Брат рассказал, что Гостиный двор тоже очень долго горел. Тушить было нечем и некому - стараниями фрицев пожаров в городе было столько, что пожарные работали только на стратегически важных объектах. До жилых домов уже руки не доходили.
Однажды я выносил нечистоты - и упал. Я не помню, поскользнулся или споткнулся, но упал головой вперед. Ведро запрыгало по маршу вниз, ноги оказались выше головы, а я понял, что мне не встать. Как я ни старался подняться - никак это не получалось. Руки подламывались, подтащить ноги тоже не выходило. После долгой мучительной возни кое-как встал, цепляясь за ограждение, совершенно выбившись из сил. Содержимое параши разлилось по ступенькам... Домой вернулся страшно расстроенный, хотя никто меня не 'застукал'.
Перед Новым 1942 годом в дом привезли папу. Сослуживцы его видели, что он уже не жилец и сделали все, что могли, чтобы хоть дома умер.
Папа мне сказал, что если мы встретим Новый и Старый новый год - все будет хорошо.
Он слег сразу и встал только один раз - к 'праздничному столу'. По причине праздника горела и буржуйка и коптилке, мы шиковали. (Электрические лампы при включении давали такой накал, что в темноте чуть было видно красноватую нить накаливания)
На столе была бутылочка пива, которую выдали по карточкам, не помню уж взамен чего.
Папа стал настаивать, чтобы брат поделился пряником, который тот выкупил на хлебные талоны своего пайка - перед новым годом дали такую возможность получить вместо хлеба пряник - брат и меня спрашивал заранее, но я отказался на такой обмен - хлеба получалось больше.
Брат отказался, папа обиделся, стал возмущаться...
Праздничного настроения естественно не было.
Папа был неузнаваем...
Когда разлили всем пива, и я его выпил, то сразу отключился...
Мама рассказывала, что я тут же сполз под стол, как тряпичная кукла. Проснулся уже утром.
После Нового года мы с папой были дома. Он не мог встать, я за ним ухаживал, как мог...Что-то делал по хозяйству, брат мне давал задания и я старался их выполнить - побаивался брата, он был со мной строг...
13 января, ровно в полдень, отец меня подозвал, что-то пытался мне сказать, но говорил так тихо и бессвязно, что я его никак не мог понять. Я даже влез на его кровать, приблизил ухо к его губам, но ничего не мог разобрать.
Вдруг он замолчал, по лицу прошли судороги, и я понял, что папа умер.
До старого Нового года он не дотянул 12 часов.
Накануне вечером мама кормила его 'супом' - размоченными в кипятке крошками - и он ей сказал, что такого вкусного супа он никогда у нее не ел, и чтобы она всегда готовила такой суп...
Мама пришла с работы и как-то не удивилась тому, что отец умер...
Никак не отреагировала.
Похоже, она все поняла еще тогда.
Когда его привезли сослуживцы...
А может, уже и сил не было на эмоции...
Он пролежал у нас в комнате до 1 февраля. Мы использовали его продовольственную карточку. А потом обмотали его тело чистой простыней, что была получше, уложили на сцепку из двух саночек и поволокли эти саночки по лестничным маршам...
Я попытался помогать, но меня оставили дома - я, похоже, уже тоже был плох...
Было грустно и пусто без папы. И очень холодно...
Его отвезли на сборный пункт - на ипподроме, где сейчас ТЮЗ.
Надо сказать, что папа у меня был замечательный. Добрый и очень заботливый. Он все время что-то приносил в дом - нам. Отрывая эту еду от себя, чтоб поделиться с нами то фуражной чечевицей, то казеиновым клеем, то жмыхом. А ведь сколько было случаев совсем другого поведения.
Мама считала, когда он притащил буржуйку и стал ее устанавливать, что это ни к чему, на что он твердо ответил: 'Зима будет тяжелая. Буржуйка необходима'
Скоро и я слег. Некоторое время я еще как-то ползал по дому, а потом и на это не осталось сил. Просто ноги не держали, я не мог не то, что ходить, просто стоять. Лежал под несколькими одеялами и пальто, одетый по - зимнему. В ушанке. Сна не было, были спазмы голода и круглосуточный пунктир забытья и лежания в темноте с открытыми глазами. Это время я запомнил как очень темное. Иногда зажигалась коптилка, иногда горела буржуйка - но темнота была все время. Окна были заделаны одеялами для светомаскировки и тепла, и открывался только маленький кусочек.
Я уже был 'не жилец' и знал это. Но это уже не пугало. Лежал в полном безразличии с крутящими болями в брюхе и когда был свет - рассматривал свои ногти. Мама и брат сердились на меня и ругали - чтоб я этого не делал. Они слышали от соседей, что это верный признак скорой смерти.
На наше счастье стекла нам вышибло только в 1943 году. Тогда же здоровенный осколок вынес в нашей комнате подоконник с куском стены и батареей отопления. А ведь у многих еще в 1941 были выбиты окна...
Налетов вроде не было, да и обстрелы то ли были вдали, то ли я их так уже воспринимал...
Однажды слышу, заходит соседка - Елена Людвиговна, подруга моей мамы. Спрашивает: 'Что Алик умирает?'
- Да - отвечает мама.
Для меня это не было секретом, я очень здраво понимал свою обреченность.
- Тут одна спекулянтка предлагает овес, горчичное масло и сахарный песок. Может, купите?
Меня поразило, как молнией - надежда появилась!
Мама купила весь этот 'продуктовый набор' за имевшиеся у нас ценные вещи...
Это без шуток был для меня из ряда вон выходящий момент воскрешения. Да и пайки стали увеличивать.
Месяца два я учился ходить, покуда хватало силенок, опираясь всем телом на стол.
И когда смог сделать первые самостоятельные шаги на ватных 'не своих' ногах - это тоже был очень радостный момент.
После этого в моей жизни были и хорошие, радостные моменты (и я их помню) и жуткие, совершенно безвыходные ситуации (и их я тем более помню), однако более сильного в эмоциональном отношении, что было во время блокады - у меня не было...
Шутка ли - второй раз родиться и второй раз научиться самостоятельно ходить...
Как начал ходить - приступил снова к своим обязанностям. Правда, трехлитровый бидон был чересчур тяжел - таскал воду в бидончике поменьше. Ну а нечистот тем более было на донышке. Они примерзали. Поэтому у меня во дворе была припрятана железяка - ею и отбивал со дна...
Тяжело было очень - каждый подъем даже без бидона давался с трудом. И дыхания не хватало и силенок...
И есть все так же хотелось.
К весне снабжение улучшилось, стало стабильным - в самые тяжелые месяца бывало, что и хлеб не привозили и можно было не попасть в число тех, кому доставалось. И нормы увеличились, и продукты стали разнообразные выдаваться.
К этому времени относятся два моих моральных падения, за которые и сейчас стыдно, но из песни слова не выкинешь. Первый раз брат выкупил конфеты. Они были такими веретенцами сантиметра по три длиной каждое. Несколько штук.
Я сидел дома один. Дай, думаю, попробую от каждой конфетки по кончику. Попробовал. Невероятно вкусно! Сладко! От этого вкуса уже и отвык.
У нас был строгий порядок - пайка каждого лежала в определенном месте. И никто не имел ее права трогать, кроме того, кому она принадлежала.
Так было с хлебом и со всем поделенным. Никогда это правило не нарушалось. А тут эти несколько конфет были как бы не распределенными.
Так я к ним и прикладывался, пока они из веретенец не превратились в бочоночки. Для меня это было очень неожиданно - и сам не понял, когда успел их так обточить, попробовал-то всего несколько раз...
Вечером, когда мама пришла с работы и все это увидела, сказала только: 'Ты думаешь, мы не нуждаемся в сладком? Ты поступил по отношению к нам очень плохо'
Больше ни она, ни брат не распространялись на эту тему. А 'бочонки' тем же вечером поделили. Пожалуй, мне больше никогда в жизни не было так стыдно...
Второй раз подобный же казус произошел с мясом. Брат выкупил мясо - по - моему, это был конец марта - начало апреля. Кусочек был маленький, грамм 300. И опять же не деленый. Меня это и подвело.
Я отрезал от него тонюсенький прозрачный пластик. Больно уж кусочек мяса выглядел аппетитно. Отрезал, благо в комнате было так холодно, как в морозильнике. Мороженое мясо резалось легко.
Сырое мясо оказалось очень вкусным. Я даже удивился, зачем его варят. Оно же и в сыром виде вкусно!
Не помню, но, похоже, я отрезал еще пластик и еще...
Когда с работы пришла мама и я ей повинился, она сказала, что, во-первых, рассчитывала сварить суп дважды, а осталось только на один раз, а во-вторых, в сыром мясе могут быть личинки глистов и поэтому его есть так очень опасно. Второй довод оказался очень действенным - больше никогда не ел сырое мясо.
С наступлением весны у нас стали качаться зубы и на деснах появились очень болезненные язвочки. Цинга. А у мамы язвы появились и на ногах.
Она даже слегла на несколько недель.
Зато возобновилось движение трамваев. Это был праздник! Мы даже с ребятами несколько раз съездили на Ржевку - за порохом. Вот ведь - еле ноги волочил - а за порохом поехал.
Немцы усилили артобстрелы. Теперь город обстреливали особенно жестко утром и по вечерам - когда люди ехали и шли на работу и ехали с работы. Работали артиллеристы профессионально - рассчитывали и пристреливали трамвайные остановки, людные места, очереди у магазинов. По другим объектам - рынкам, госпиталям, больницам, школам - тоже продолжали работать.
Брат однажды прибежал в шоке, весь в крови - снаряд ударил в вагон, где он ехал и осколки скосили стоявших перед братом пассажиров - они его своими телами прикрыли (утром у Московского вокзала это произошло).
Его одежду надо было постирать - он был весь в крови, а для этого и воды понадобилось много, и мама лежала больная. Мороки было много, но главное - его не зацепило, повезло.
Примерно в то же время я тоже попал под обстрел и тоже в районе площади Восстания. К моему счастью я тогда не дошел до угла Лиговки и успел приткнуться у бордюрного камня на мостовой проспекта 25 Октября (сейчас - Невский проспект). А за углом как раз стояли люди - очередь видимо - и их всех смело первым же разрывом, так что ошметья выхлестнуло из-за этого угла. Шел бы быстрее - попал бы аккуратно под этот разрыв. А так увидел это - и залег.
Я не пострадал, но столько окровавленных разорванных тел меня ошарашили. Запомнился кусок черепа и отрубленная женская рука на трамвайной остановке - туда тоже попал снаряд...
Артиллерийский обстрел обычно велся очередями, с паузами.
Вроде все закончилось, люди начинают движение и тут снова с десяток снарядов. Огневые налеты чередовались с беспокоящим огнем - когда рвались по одному - два снаряда через неравные промежутки времени.
Явно кто-то разрабатывал график огня, рассчитывал по районам. Привязывал к конкретным целям. С учетом рабочего времени, психологии и так далее...
Например, когда становилось ясно, что трамвайная остановка пристреляна - наши переносили ее в сторону. Начиналось все сначала.
Не знаю, как немцы корректировали огонь, но, по-моему, они знали, где остановки и прочие цели достаточно точно. И если госпиталь с места не сдвинешь, то вот откуда они узнавали о перемещении остановок?
Правда, мы с папой - еще осенью - во время налета видели, как кто-то запустил зеленые ракеты - как раз в направлении военного объекта, рядом с которым мы как раз шли. Папа тут же потащил меня прочь - чтоб и под бомбу не попасть и с НКВД не объясняться...
К этому времени мы в квартире остались одни - кто помер, кто уехал.
Например, еврейская семья, жившая по соседству, вымерла практически вся - еще в декабре. Только двое эвакуировались по Дороге Жизни. И дочь уже умерла там - от дистрофии так просто не убежишь, а на первых порах от большого сочувствия, и от малого опыта эвакуированных из города встречали обильной едой. А это часто было смертельно.
Вообще умереть можно было от многих причин. Где-то в декабре 41 папа принес кусочек подсолнечного жмыха - после выжимки масла такое оставалось. По прочности - практически камень, но с изумительным запахом и привкусом подсолнечника, семечек.
Мама принялась его размягчать. Не помню, что она с ним делала, но возилась долго. Мне дали маленький кусочек, и я был целиком занят им.
На следующий день мама сделала из этого размягченного жмыха лепешки, хотя вообще-то получилась коричневатая кашица. Поджарила она это на остатках рыбьего жира, который нашли в семейной аптечке.
Деликатес растянули на два дня. Больше не получилось к нашей грусти. Была даже такая мысль, что после войны не плохо бы почаще готовить такое вкусное кушанье.
И вот после второй трапезы появились позывы к тому, чтоб облегчиться. Вот тут-то и возникли проблемы - тебя распирает, разрывает буквально, а ничего наружу не входит.
Это был жутчайший запор. Только после страшнейших мучений и даже манипуляций удалось избавиться от 'шлаков из жмыха'. Хорошо, что плитка жмыха была маленькая и поделили ее на всех, да и ели два дня, а не съели за один раз. А сколько сил было израсходовано, чтоб освободиться от этих шлаков...
Да чего говорить - любое действие - даже сходить в туалет - в условиях блокады было серьезным испытанием. Случаи, когда люди замерзали на горшке были нередки...Больно уж сил было мало у людей - и наоборот - слишком мощные силы были против...
И все это нам устроили цивилизованные немцы. Меня удивляют разговоры о том, что мы должны были сдаться - особенно после многократной публикации документов о том, какую судьбу нам приготовило немецкое руководство. Удивляет постановка на одну доску наших солдат - и немецких.
Дескать, все были несчастны, их горемык погнали воевать, а они чуть ли не хотели...
Какая дурь...Они воевали с охоткой, изобретательно и весело. И старательно убивали нас. И в плен не сдавались. Хотелось им тут землицы, богатства и рабов.
И все эти вопли об изнасилованных немках...
О нашей вине...
Причем вопят-то как раз не немцы, а наши вроде бы журналисты. Удивительно.
Очень удивительно...
И жаль, очень жаль, что родители этих журналистов не оказались тут - в блокаде...
2. Порох со станции Ржевка.
Весной 1942 года цинга сильно донимала. Качались зубы, на деснах появились маленькие, но очень болезненные язвочки. У мамы язвы появились на ногах.
Где-то с июня месяца мы с мамой получали доппитание. Я в школе, где учился первые два класса, а мама в кафе, рядом с ее работой.
Для того, чтоб получить такое питание, нужно было пройти освидетельствование у врача в своей поликлинике. Выдавали на руки справку, в которой указывалось, что ты дистрофик такой-то степени и нуждаешься в дополнительном питании. Через пару недель надо было проходить повторно освидетельствование. Смешно конечно полагать, что за пару недель можно вылечить дистрофика, но такой был порядок.
Запомнилась тихая очередь из мальчишек и девчонок перед врачебным кабинетом. По внешнему виду можно бы сказать, что выглядели все как старички и старушки, но только очень тихие и малоподвижные.
Питание это - что у мамы, что у меня - представляло собой две лепешки из соевых шрот и стакан либо соевого молока, либо соевого кефира.
Не могу понять, почему у брата не было доппитания. Мы ему приносили лепешки - сами жевать их не могли, было очень больно. По структуре лепешки очень сильно напоминали опилки, но опилки, которые можно было жевать и съесть.
Часам к 12 мы приходили во двор школы. Грелись на солнышке и ожидали, когда нас позовут в столовую.
Весной я был принят в пионеры. Выстроили нас на наружной лестнице школы. Внизу пионервожатая читала слова клятвы, а мы их слово за слово повторяли. Это тоже подняло настроение - как и другие признаки, того, что город оживает понемногу. Да еще потом нас угостили соевым суфле. Редкое удовольствие.
Только вот одноклассников очень мало осталось. Собрали всех из других классов - и то на лестнице было достаточно места.
Весной люди продолжали умирать. Зимой в основном помирали мужчины. А вот весной долго державшиеся женщины сдали. Запомнилось очень сильно, как где-то в конце апреля - начале мая, я оказался на улице Маяковского, почти напротив роддома им. Снегирева.
Там был сборный пункт для трупов. Торцом туда - к ул. Маяковского выходил один из корпусов Куйбышевской больницы (сейчас Мариинская больница ). Этот корпус был сильно разрушен бомбой, а дальше вдоль улицы шел корпус нейрохирургии. Вот как раз у разбомбленного здания и были штабеля трупов. Тела были в разных позах, некоторые в 'упаковке', другие так, как их подобрали на улице или вытащили из мертвых квартир - весной девчонки из МПВО и сандружинницы провели громадную работу по очистке города от трупов, откуда только у них силы брались...
Пока я переводил дух перед тем, как двигаться дальше, как раз девчонки - дружинницы грузили мертвецов на крупповскую пятитонку. Тогда в городе ходили эти здоровенные машины, резко отличавшиеся от привычных трехтонок и полуторок. Они были еще с довоенных времен.
Погрузка как раз заканчивалась. Девчата закрыли задний борт, вся бригада разместилась в кузове прямо на трупах. Кузов был набит полным, с верхом. Трупы сверху ничем не покрывались. Машина вырулила на улицу и поехала от проспекта им. 25 Октября (Так тогда назывался Невский проспект), а у сборного пункта поднялся какой-то шум.
Это было особенно слышно, потому что момент был редким по тишине - немцы не стреляли. К пропускному пункту женщина притянула санки, с сидящей на них старухой. До сих пор удивляюсь, как эта женщина-дистрофик тянула санки с грузом - асфальт уже почти везде был чистый. Снег-то потаял. Мне показалось, что уже эта женщина была не в себе. Старуха была еще живая и изредка слабо шевелилась.
Женщина требовала от санитарок, чтоб ее мать положили к трупам, так как она вечером или утром завтра, но все равно умрет. (Это при живой еще старухе!) Препирательства с дежурными кончились тем, что женщина оставила санки со старухой у ворот и неуверенно побрела прочь. Видно было, что она и сама очень плоха.
Светило солнце, было уже по-весеннему тепло, а главное - было очень тихо и покойно.
Такое случалось нечасто.
Сейчас я думаю, что той старухе на санках могло быть и совсем немного лет. И женщина, притащившая по голому асфальту санки тоже могла быть совсем нестарой. Дистрофия страшно старит...
А мы потихоньку оклемывались. Кто-то из мальчишек притащил артиллерийский порох - такие зеленоватые макаронины - и пугал им девчонок, когда мы в очередной раз ждали открытия столовой. Подожженная макаронина шипела, свистела и даже летала, а если падала на землю - то ползла по ней. Девчонки пугались и визжали. Тихонько, слабо, но все-таки...
Оказалось, что порохом можно разжиться на станции Ржевка. В блокаду это был основной железнодорожный узел в Ленинграде. Где-то в марте немцам удалось очень удачно артналетом накрыть там пару составов с боеприпасами. Но основная катастрофа была из-за того, что рванули несколько вагонов с взрывчаткой - вроде тетрилом. Как сказал один железнодорожник, видевший это - 'огонь перепорхнул по вагонам - тут все и разлетелось'. Взрывная волна была такой, что километра на полтора целых домов не осталось.
Как я слышал, начальнику станции грозило очень суровое наказание - эти злосчастные вагоны не эвакуировали при начале артобстрела и даже вроде не тушили, когда они загорелись. Вот они и грохнули так, что полгорода слышали эти взрывы. Начальника ранило и тяжело контузило, но то, что он показал себя героически, вряд ли бы его спасло.
Спасло его то, что в разрушенном здании станции уцелели документы на эти самые вагоны. Железнодорожникам не нужно знать, что именно в вагонах - потому на документах ставилась пометка огнеопасности груза. Так вот в сопроводительных документах ошибочно вместо высшей категории пожароопасности стояла низшая.
Как если бы вместо тетрила там лежали чугунные болванки. Поэтому начальник остался на своем посту - бездействие по отношении к сверхопасному грузу было признано объяснимым. Но полагаю, что отправители груза так легко не отделались.
Так вот в окрестностях станции и можно было разжиться порохом. Мешочки с порохом - валялись прямо на земле. Снаряды были собраны в кучки - одни снаряды, без гильз.
Мы так ездили на Ржевку несколько раз. Потом остыли к этой забаве - девчонки перестали пугаться, да и станцию почистили. И снаряды куда-то дели.
Примечание сына: Ну, с гильзами все понятно - в блокированном городе гильзы к артвыстрелам были на вес золота и перезаряжались не раз - были специальные снаряжательные цеха. Вроде и снаряды тоже перезарядили тоже, поменяв взрыватели - их делали в Ленинграде.
3. Музей обороны Ленинграда.
В теплый летний день 1942 года мы с ребятами, с которыми ходили в школу на обеды, узнали, что на Соляном переулке представили для обозрения сбитый немецкий самолет и решили посмотреть на это диво.
До Литейного с Лиговки доехали на трамвае, благо с нас никто за проезд не требовал оплаты. Вообще после первой блокадной зимы у выживших было какое-то особое отношение к детям - с нас не брали денег за трамвай (хотя стоило это недорого), в парикмахерских тоже стригли бесплатно... Хотя сейчас, когда смотришь телепередачи о блокаде получается что весь город был буквально наводнен людоедами, которые только и старались сожрать каждого ребенка. Чушь поганая.
В трамвай было трудно залезть, очень непростая задача подняться по ступенькам - сил не было у всех. Но сам трамвай - это было чудо, знак Победы, как бы это патетически не звучало сейчас. Когда их пустили - люди плакали от радости, а вагоновожатые все время звонили в звонок и этот, до войны довольно неприятный звук, казался прекрасным. Он означал, что мы не только выжили, но и выстояли и теперь все будет хорошо.
До Соляного от Литейного добирались пешком. В этом уголке Ленинграда я до того ни разу не был. Переулок был замощен булыжником с уклоном в середину переулка. В конце его - у Гангутской улицы плашмя на земле лежал немецкий истребитель.
Я не знаю, что это была за марка. Самолет поражал своими формами, он был очень изящен и одновременно был хищным и зловещим. Свастика и крест на фюзеляже дополняли впечатление. От него веяло смертью и, несмотря на теплую погоду, словно тянуло холодом.
Приятно было влезть на гремящее под ногами крыло и походить по плоскости. Очень хотелось от души попинать эту машину, но сил на это ни у кого не было. Все очень радовались, что удается справляться с такими смертоносными страшилищами. Даже по виду этого истребителя было видно, что это была опасная и хорошо сделанная смертоносная техника.
Конечно, выставили эту трофейную машину на обозрение, чтоб поднять дух жителей Ленинграда. Интересно, что этот экспонат оказался у стен здания, в котором через 4 года открылся музей обороны Ленинграда.
Возможно уже тогда - пока город еще был в блокаде - прорабатывался проект организации этого нужного музея.
По-моему музей обороны Ленинграда был открыт в 1946 году и вроде вход в него был бесплатным. Входили в него через парадную дверь - с Гангутской улицы. Прямо перед входом стоял громадный подбитый 'Тигр'
Ребята лазали по этому танку, залезали вовнутрь - люки были открыты. Я не залезал, хотя очень хотелось, но ребята рассказали, что внутри все было загажено.
В это время скверик, находившийся между Рыночной улицей и зданием старинной гимназии, был буквально забит трофейной военной техникой. Битком, вплотную дружка к дружке и туда никого не пускали. А снаружи разобрать что-либо было очень сложно, слишком много там стояло всякого - разного.
Внутри поражал громадный зал с металлическими фермами, держащими крышу. Справа от входа на весь торец здания была выполнена грандиозная картина, изображавшая штурм Пулковских высот после мощнейшей артподготовки. На переднем к зрителю крае были выполнены в натуральную величину фигуры наших атакующих бойцов и лежащие в разных позах убитые немцы. Использование настоящей одежды, оружия усиливало впечатление и к слову даже трупы были сделаны очень натурально - не было впечатления, что это куклы, они лежали так, как лежат трупы - как-то по-особому сплюснувшись, как не может лежать живой. Раскромсанное, гнутое немецкое оружие в перепаханных позициях усиливали впечатление правдоподобия и давали особое ощущение мощи удара по врагу...
К фермам был подвешен бомбардировщик, который принимал участие в бомбежках Берлина вроде в августе 1941. Это был дерзкий и неожиданный для немцев налет, они этого никак не ожидали.
Поверьте - это очень большая разница - жить спокойно, и не соблюдая светомаскировки, зная, что ночью будешь спокойно спать в своей постели, а утром, потягиваясь, подойдешь к окну и посмотришь через стекло во двор - или заклеивать окна бумажными полосами - тогда говорили, что якобы это защитит стекла при ударе взрывной волны, но это чушь. (А вот что было полезного - проклеенные стекла не так далеко летели в комнаты и не так ранили - газетные бумажки тут помогали действительно.) Тщательно закрывать тканью окна - чтоб щелочки не осталось для света и каждую минуту ждать воздушную тревогу, чтоб бежать в подвал, где наспех сооружено примитивное бомбоубежище... И понимать при этом, что каждая бомба может быть твоей. Именно - твоей. А уж что делают бомбы с домами - это каждый ленинградец своими глазами видел.
Конечно, разрушительная мощь наших бомбардировщиков была несерьезной - но то, что немцев угостили тем, чем они кормили нас, моральное впечатление от этой бомбардировки - было огромным. И для нас и для немцев.
Жаль, что потом этот великолепный экспонат бесследно исчез после разгрома музея.
В этом же зале по правую сторону стояли наши танкетки, пушки, броневики и танки, а напротив - то же, но немецкое. Конечно, были портреты Сталина, Кузнецова, Жданова.
Напротив входа в этот зал была пирамида из немецких касок. По высоте эта пирамида была метра 4. В основании пирамиды было навалено кучами немецкое стрелковое вооружение - и мне кажется, что оно все было из разных образцов, то есть не одни и те же винтовки и автоматы, а разные модели. Эта пирамида производила очень мощное впечатление.
Этот зал вообще великолепен, в первую голову из-за очень грамотного оформления и подачи экспонатов. Он был очень умело и с душой оформлен. Когда я находился в нем - настроение становилось радостным и приподнятым, гордым за наших воинов, которые смогли нас защитить и отомстить за все наши беды.
Следующий зал - находившийся в таком же промышленного типа ангаре был посвящен подвигу военно-морского флота Ленинградского фронта. Сразу привлекал внимание отличившийся в боевых действиях торпедный катер. По-моему там были представлены и десантные плавсредства. Были прекрасно и старательно сделанные макеты акватории боевых действий с зонами минирования, множество образцов мин, торпед, прочего морского вооружения.
В двухэтажном корпусе 'А' в залах были представлены остальные элементы обороны Ленинграда. У меня осталось впечатление, что для всего, что было выставлено, места было слишком мало. По-моему был такой момент в работе музея обороны Ленинграда, что его закрыли на какой-то период, а когда открыли снова - экспозиция была значительно расширена и стала дополнительно оформлена в корпусе 'Б'.
Тяжелое впечатление оставалось от зала, экспонаты которого рассказывали об артобстрелах города. В стене зала была сделана брешь - как от попадания артснаряда - и сквозь нее просматривался участок Невского (перекресток с Садовой). Были видны разрывы снарядов и попавшие под артобстрел люди.
По-моему в этом же зале был выставлен кусок трамвайного вагона, в который попал снаряд. Тогда в этом вагоне было убито и искалечено много людей сразу... (немецкие артиллеристы старались обстреливать остановки трамваев, и обстреливали в начале и конце рабочих смен и по обеденным перерывам. Соответственно в рамках ГО остановки переносились на другие места и по времени старались не допускать скоплений народа. Но несколько раз немцам удавалось накрыть и людей на остановках, и трамваи).
Музей также был интересен тем, что все аспекты жизни, все фазы борьбы были представлены и экспонатами и фотографиями, великолепно сделанными макетами и картинами.
Был, например такой период, когда на город сбрасывали торпеды на парашютах. В одном из залов такая торпеда с парашютом лежала на полу - из числа тех, которые успели обезвредить. Тут же было указано: в какие места города были сброшены такие подарки и тут же были фото разрушений от них.
Общая экспозиция была и обширна и интересна. От увиденного сильно уставали но хотелось придти еще и еще. Оформление было сделано и со вкусом и с душой. Художники и скульпторы постарались на совесть.
Наверное, потому, что все, что делалось, было очень близко исполнителям.
А недавно я посетил новый музей обороны Ленинграда. Захотел посмотреть выставку 'Поле боя - пропаганда' и вдохновиться для завершения записок о музее.
Конечно, по горячим следам, да еще и с громадным выбором оставшейся на полях только что прошедших сражений техники и оружия работать легче и тот - уничтоженный в 1949 году музей имел гораздо, несравнимо больше экспонатов.
Одних только крупногабаритных образцов нашей и трофейной техники было несколько десятков. Стрелкового оружия - были не сотни - тысячи единиц (это к слову послужило в плане обвинения ленинградцев в подготовке вооруженного восстания против кремлевского руководства). Тысячи экспонатов, фото, документов. Места не хватало.
Трудно сравнивать тот музей - и современный. Это, безусловно, был подвиг - создать с нуля 8 сентября 1989 года на пустом месте новый музей. Но получилась скорее поминальная выставка по тому, погибшему музею.
Однако все значительные события блокады имеют очень мало экспонатов, которые бы в полной мере отразили бы подвиг...Подвиг обороны Ленинграда уникален. Не знаю, с чем его можно было сравнить.
Боюсь стариковского брюзжания 'раньше все было лучше', но конечно современный музей не имеет и части той техники, что была в прежнем. Не говоря уж о 'Тигре' и самолетах, но ведь и другие впечатляли - например французская дальнобойная пушка со снарядами в полтонны. В зале с пирамидой из касок было много артсистем - и наших и врага и контрбатарейная борьба освещалась поэтому очень ясно. Даже коллекция трофейного стрелкового оружия поражала - любое, со всей Европы из всех стран. Наши системы были куда малочисленнее.
Каждый выставочный зал был посвящен отдельной службе - МПВО, Дороге жизни, Медицине, обеспечения населения хлебом, Службе СМЕРШ, Контрбатарейной борьбе, прорыву блокады в 1943 году, Снятию блокады - всего не упомнишь.
И каждый из этих залов был забит, просто забит предметами, относящимися к этой теме.
Множество витрин 1,5х1,5 метра с макетами, где было показано как развивались события.
Запомнился макеты моста, поставленного на сваях в уровне ледового покрытия Невы. В мае 1943 года мост из-за подвижек ледяного покрова стал разрушаться. Тогда сваи срочно стали вынимать и ставить новый деревянный надводный мост. А ведь в мостостроительном отряде были почти что одни женщины.
Этому подвигу посвящался целый зал. И в каждом зале ощущалось какую страшную тяжесть вынесли на своих плечах люди. Почти физически ощущалось.
Конечно, и роль руководителя музея играла значение - Раков был очень грамотным руководителем и команду подобрал замечательную. Разумеется и деньги нужны...Но все-таки художественное чутье, ясная позиция, мастерство - тоже необходимо.
Огорчило следующее. В том - первом музее мне запомнился парадный мундир немецкого офицера, предназначенный для парада по случаю взятия Ленинграда и пропуск в ресторан 'Астория' по этому поводу. Запомнилась эта витрина, хотя тогда немецкие мундиры попадались часто.
Сейчас в музее несколько витрин с мундирами и снаряжением немецких, финских, наших военнослужащих. К чему все это? Быть может это интересно, но какое отношение имеет к подвигу ленинградцев, наших солдат и рабочих? Да еще и расположены мундиры рядышком...
Я не понимаю, зачем это нужно - такие параллельные расположения нашего - и вражеского снаряжения. Мне кажется, что важнее представить теперь в каких условиях холода, темноты, голода находились и защитники, и жители нашего города. У врага условия жизни были куда лучше, их быт с нашим и сравнить нельзя. Я видел фото немецких артиллеристов-дальнобойщиков. Смеющиеся. Сытые молодые ребята. Им было весело, когда из своих крупнокалиберных орудий они долбали по городу. Ведь без особых усилий и напряги - и на первых порах - до развития контрбатарейной борьбы - в полной безопасности они слали снаряд за снарядом и - каждым - попадали в цель. Каждый снаряд - в цель! Как здорово - этому можно радоваться.
Только целью были мы. По нам они долбили днем и ночью. Старательно, добросовестно убивали людей и рвали город. Мало кто знает, что не только дома рушились - грунт нашего города от таких обстрелов тоже ранен - долгое время после войны все коммуникации постоянно портились - потому что даже земля в городе была повреждена и потому местами проседала, рвя и кабели, и канализацию и водопровод...
В том погибшем музее солдат противника был Враг. Враг не имел морального права даже мундиром стоять рядом с чем - либо нашим. Он занимал положенное ему по истории место - под ногами победителей. В нынешней экспозиции - солдат вермахта, финн - какая-то кукла, представленная то в одном, то другом наряде...
Разумеется, им в мерзлых окопах было несколько неуютнее, чем у себя дома, но вот нашей смерти они хотели все без исключения, рвались к захвату новых земель и без раздумий сравняли бы город с землей, разграбив его сначала, как они это сделали с пригородами Ленинграда. То, что там было сотворено, мы видели своими глазами.
Поэтому бредни о гуманизме и культуре гитлеровцев вызывают физическую тошноту.
Нас пришли убивать, делали это с удовольствием - и потому никакого уважения и преклонения перед гитлеровцами быть не может. И нынешняя возня с останками вражеских солдат, создания им мемориалов - глупость. Трупы преступников, убийц, террористов и сейчас хоронятся без почестей, без выдачи родственникам. Вермахт, СС - именно и были армией преступников. Потому - никаких почестей им быть не должно.
Не надо притворяться, что были с их стороны какие-то правила игры, на манер рыцарского турнира. Не надо приманивать следующих таких же завоевателей и обманывать самих себя. Нам не было пощады тогда и случись что - не будет сейчас.
Понятно, что в двух залах не развернуть такой блестящей экспозиции, что была раньше.
Анфилада залов вела посетителей от начала обороны - к снятию блокады...
И колоссальное строительство оборонительных рубежей и защита Лужского рубежа и жуткие свидетельства пещерного блокадного быта, и варварство оккупантов...
Общее ощущение было как от стеклянного человека - были такие экспонаты в Музее гигиены - так же переплетение сложнейших взаимозависимых систем обороны города создавали цельный организм - как и видимые сквозь стекло человеческие органы и системы составляют человеческое тело... Вот этого погружения в ужас и гордость блокады в современном музее нет...
И выставка про пропаганду получилась беззубая и никакая. Ну, немецкие и финские листовки. Ну, наши материалы.
И что?
Да ничего.
А ведь и в плане пропаганды оккупанты проиграли войну. Наши пропагандеры писали такую ахинею, что немецкие и финские солдаты откровенно веселились, читая наши листовки. Несколько раз слышал о том, что тут у нас под Ленинградом эти листовки читали немецкие офицеры перед строем солдат, и только железная немецкая дисциплина не позволяла воинам Рейха кататься по земле от хохота. В то же время немецким листовкам, сулившим молочные реки с кисельными берегами для нашего населения и сдавшихся в плен - бывало и верили. Так что в начале войны немецкая пропаганда одерживала такие же победы, как и другие рода войск.
А вот позже - наша пропаганда сменила пластинку и смогла зацепить немцев за живое. В 1943 году немцы уже не устраивали группового веселья с зачиткой дурацких большевистских листовок перед строем - наоборот солдат, у которого такую листовку находили, получал взыскание. Наши же люди, на деле увидев, что вытворяют немцы и финны в их пропаганду верить перестали.
Как сказал знакомый молодой художник: 'А вот переход от лозунга 'немецкий солдат, ты ж по своему брату пролетарию стреляешь!', на лозунг 'пока вы тут
дохнете, эсэсовцы с вашими женами спят', дал свои результаты. А что поделать, ребятам которые пришли сюда за дармовой землицей и рабами, это было ближе классового сознания. К слову сказать, немецкие агитаторы так и не переключившиеся с 'бей жида политрука', признавали что эту драчку проиграли вчистую, а она не сказать чтоб маловажная была, ага.'
Этого и близко в выставке невидно. Жаль. Почему-то мы должны стыдиться своих успехов, вилять хвостом и извиняться...И еще больше жаль, что геббельсовская пропаганда проиграв во время войны - победила сейчас. Очень горько это видеть.
Так же горько было смотреть, когда громили музей. Это была одна из деталей общего погрома, который Москва устроила нашему городу. Я не знаю, насколько были справедливы обвинения в том, что Ленинград собирался стать столицей РСФСР, что ленинградская партийная верхушка собиралась создать отдельную от Москвы страну и так далее...Часть обвинений была и тогда абсурдной - например, что оружие в музее - для похода на Москву и мятежа. Что бомбардировщик, висящий в зале, предполагалось использовать для бомбежки то ли Смольного, то ли Кремля...
Маленков, руководивший погромом, постарался. В связи с ликвидацией музея корпуса передавались другому учреждению, поэтому для проведения обмеров и сверки чертежей была откомандирована группа техников-строителей. Я попал в эту группу...
Впечатление было ужасающим. Когда нас впустили в музей, там царил хаос. Впрочем, музейные служители были на своих местах и смотрели, чтоб ничего никто не вынес.
Смотрели, как чужаки громят их детище. Работали какие-то люди, вроде прибывшие из Москвы.
Во дворе были кучи пепла и там жгли документы. Бесценные уникальные бумаги - дневники, письма, официальные разные бланки и листы. Знаменитый дневник Тани Савичевой - случайно тогда уцелел...
Сколько таких же пронзительных, рвущих душу записей спалили - неизвестно.
В залах уже резали 'на мясо' технику. Мне было и тогда непонятно и непонятно сейчас - зачем было уничтожать уникальные образцы. Тот же мотоцикл на полугусеничном ходу, французскую пушку калибром в полметра, лупившую снарядами в полтонны...Самолеты, танки...
По всему залу были раскиданы те самые каски из пирамиды и валялись фигуры с диарамы. Потом с фигур посрывали одежду и все сгребли в кучи - иначе было очень непросто ходить по заваленным залам. Потому что все было раскурочено - во всех залах.
Музей именно уничтожался. Обычно ведь если музей прекращает свое существование его фонды распределяются по другим музеям или коллекционерам. Тут только жалкие крохи ушли в Артиллерийский музей, Военно-морской и Железнодорожный. Все остальное именно ликвидировалось, чтоб духу не было.
Так погиб музей, делавший благородное дело, вызывавший гордость и уважение к тем, кто победил орду убийц и грабителей. Он воспитывал гордость за свою страну, за свой город-герой.
Этого в нынешней выставке нет. Но хорошо, что хоть такая есть. Хоть что-то...
4. Снарядик.
Зимой 1945 года я учился в школе, что напротив завода Сан-Галли. Это было время, когда было и голодно и холодно. Война завершалась, уже было ясно, что наша победа неотвратима и все ее ждали с нетерпением, но жилось очень нелегко.
Дома отопление отсутствовало - в блокаду все радиаторы замерзли и полопались. Все отопление сводилось к топке нескольких утюгов, рассчитанных на древесный уголь. (Мама его где-то доставала в небольших количествах). Буржуйки у нас не было - ее кто-то у нас украл, мебель всю, что можно, сожгли в блокаду. Вот и грели утюги, когда был уголь, на манер японских жаровень. Толку от этого было совсем чуть, но все-таки теплее...
Одежонка у меня была не ахти, зато обувка - высший класс! Ватные бурки в калошах. Тепло и сухо. Эту замечательную обувку - бурки - сделала мне мама.
Учеба давалась не без труда. Очень трудно было сосредоточиться - все время хотелось есть. (Какой дурак сказал, что сытое брюхо к учебе глухо! Голодное куда более глухо.)
Мама на работе покупала у знакомых проводников картошку. Когда мама ее приносила, все мысли были о том, чтоб эту картошку быстрее сварить и съесть. Бывало, набьешь картошкой живот, тяжело, а есть все равно хочется.
У нас в классе у одного из моих одноклассников появились вдруг занятные, раньше не виданные штуковины - маленькие, очень нарядные снарядики. Просто игрушки. Очень красивые.
Однокашник форсил - прямо при нас разбирая такой снарядик на составные части - и на ладони эти детальки - от блестящего взрывателя до шайбочек взрывчатки выглядели очень соблазнительно. А потом так же элегантно и быстро он собирал снарядик снова и прятал себе в сумку. Все это выглядело как цирковой фокус.
Не знаю как другим - хотя посмотреть на этот фокус всегда собиралась маленькая, но толпа дуралеев - а мне чертовски хотелось вот так же ловко заниматься разборкой и сборкой такой замечательной игрушки. Не знаю, чем это меня так поразило - другие военные штучки так не поражали. К пистолетам, которыми хвастались другие ребята у меня, после одного инцидента, никакого интереса не было, да и к прочим военным штучкам тоже - а вот тут загорелся.
От однокашника я узнал, что он раздобыл его в одном из поврежденных 'шерманов', которые были выгружены на 'Московской-товарной' - там было кладбище бронетехники.
Буквально на следующее утро, благо учился во вторую смену, я отправился за 'игрушками'.
Утро было серое и сырое. Редкие прохожие шли мимо битых танков. Делаю рывок, когда никого рядом нет, не без труда забираюсь на танк, у которого открыт башенный люк. Поблизости по-прежнему никого нет. Ныряю в люк. Сердце колотится.
В танке, хотя стенки покрашены белой краской, темновато. Пытаюсь найти вожделенные снаряды - но все гнезда для боеприпаса пустые...
Снаружи ходят люди, разговаривают. Страшно!
Нашел вмонтированный в броню пулемет. Совершенно целый. Вороненая синяя сталь. Штучка, что надо! Плавно ходит, когда им вертишь. Послушный такой. Хочется его забрать с собой. Тут только понимаю, что никаких инструментов не взял. Поиск в танке опять ничего не дал. Голыми руками снять пулемет не получилось...Досадно...
А как хотелось бы!
(Сейчас смешно вспоминать. Хорош бы я был, идущий по Лиговке с пулеметом наперевес...Не говоря о том, что железяка для не вполне оправившегося после блокады дистрофика была куда как тяжеловата. Но так хотелось ее снять и унести домой...)
Дождался, пока рядом никого не будет и, не солоно хлебавши, отправился обратно.
Забираться в другие танки сил не было. Да и люки у них были закрыты. Я же опасался попасться. Мне-то бы ничего не было, а у мамы были бы неприятности.
Поход закончился фуком...
А скоро, придя в школу, я узнал от ребят, что наш одноклассник, которому я позавидовал, отправлен в госпиталь! Ему оторвало кисти рук, выбило глаза и сильно порвало лицо. Не знаю - тот ли снарядик это был, который он так лихо разбирал и собирал в нашей толпе...
Казалось бы после случившегося нужно было б забыть о подобных играх, однако вероятно в этом возрасте у человека чего-то недостает в голове...
5. Как топить плиту толом.
Нашим соседям по квартире предложили огородный участок на ст. Тайцы. Зинаида Григорьевна взяла своего сына Юру - и меня заодно - мы с Юркой дружили. Для того чтоб посмотреть на участки, выделенные работникам Октябрьской железной дороги под огороды, организовали специальный поезд и по свежепроложенной ветке, так и доехали до места.
Хотя была уже поздняя весна 1945 года, место было голое, почти без растительности. Такое было впечатление, что тут все перекопано и трава какая-то клочковатая и кусты жиденькие. Приехавшие железнодорожники разбрелись смотреть на свои участки - вероятно, там были какие-то вешки или другие обозначения.
Когда мы прошли метров 20 от насыпи, я нашел очень красивый снаряд - весь в кольцах с цифрами и делениями. Зинаида Григорьевна его тут же отняла, а мне дала такого пинка, что я отлетел на несколько метров и шлепнулся на землю.
Прямо на РГД.
Новехонькая. Зеленая. Без запала. Я тут же прибрал ее за пазуху. Зинаида Григорьевна этого не заметила, но как-то встревожилась. Отправила нас с Юркой обратно к насыпи, велела никуда не отходить, а сама прошла еще дальше.
Пока мы ее ждали, я нашел у насыпи немецкий погон - черный с широким серебряным кантом, человеческий череп без нижней челюсти с черной жижей внутри и пару немецких подковок на каблук, аккуратно перевязанные веревочкой. На Юрку больше впечатления произвел череп - явно молодого человека, с отличными зубами, а я был рад подковкам - каблуки у меня почему-то снашивались быстро, а с такими подковами эта проблема снималась. И действительно, приколотив дома подковы, я больше о каблуках не думал. Разве что ходить было очень шумно, а на экскурсии в Русском музее пришлось ходить на цыпочках.
Вернулась Зинаида Григорьевна. Ей что-то там сильно не понравилось, и от участка она отказалась. Наверное, и правильно, так как потом из тех, кто там ухаживал за огородами, были подрывы и жертвы.
А РГД дома я разобрал. Тол решил с пользой спалить в кухонной плите - по недостатку дров. Вот тут-то я и влип. Вместо спокойного, даже меланхоличного горения, взрывчатка буквально полыхнула. Горение сопровождалось зловещим воем, кухня заполнилась черным едким дымом, который и по квартире расползся. Кухонная плита раскалилась докрасна. Одним словом - жуть!
После этого эксперимента я некоторое время не мог придти в себя. С месяц в квартире держался запах горелого тола, что вызвало у соседей по коммунальной квартире резкие замечания. Хорошо еще соседки не поняли, что воняет взрывчаткой...
Больше я тол в кухонной плите не жег.
6. Военнопленные.
От моего дома до школы было метров 300. Зимой 1945 года трамваи ходили редко и утром были забиты битком. Поэтому я приспособился подъезжать на 'колбасе' часто ходивших грузовых трамваев - как и всякий уважающий себя лиговский мальчишка.
Затрудняюсь сказать, откуда взялось такое название для этого способа езды - может быть из-за шланга для сжатого воздуха, торчавшего из торца вагона. А может из-за порожка по низу торца...Принцип был прост - вскочить на ходу на эту приступочку и держась за шланг ехать куда нужно. На мальчишек смотрели сквозь пальцы, подобная езда взрослых - осуждалась.
Грузовые вагоны утром развозили пленных немцев на работы. Они разбирали завалы и строили новые дома - и сейчас в городе эти дома стоят. Стояли немцы на открытых платформах вплотную, наверное, так было теплее - одежка-то у них была никудышная - пилотки, шинели. А зима была хоть и не такой свирепой, как в 1941 но по -20 бывало, особенно утром.
Почему-то мне казалось, что если я навернусь, прыгая с колбасы на ходу, то они этому порадуются. Радовать их - врагов - категорически не хотелось, и я прилагал все силенки и все умение, чтоб не опозориться в глазах фашистов.
В то же время пленных было жалко. Двойственное они вызывали чувство.
И видимо не у меня одного. Коллеги, побывавшие в немецком плену, рассказывали, что получить камнем от немецкого мальчишки - было совершенно обыденным делом. А уж побои и глум со стороны конвоиров - было еще более обыденным.
Я один раз видел сцену, когда немец валялся ничком у входа в барак, а трое конвоиров кричали ему, что б он вставал и шел в помещение, попинывая его сапогами - не пиная, а именно пихая. Немцев содержали в зданиях конюшен - до войны на площади, где сейчас ТЮЗ был ипподром. В блокаду там был сборный пункт - свозили туда трупы. Туда же брат и мама отвезли умершего моего отца. Там же после блокады в конюшнях разместили пленных.
От этой сцены - тоже было какое-то двоякое ощущение...С одной стороны я понимал, что этот немец - соучастник блокады и будь он конвоиром наших пленных - то не стесняясь пинал бы от души без зазрения совести, а то и просто пристрелил бы, с другой - ну не одобрял я наших...Нехорошо как-то...
Весной 1945 года - еще до Победы в Ленинграде было устроено шествие военнопленных - не такое громадное, конечно, как в Москве, но впечатляющее... Они шли мимо Витебского вокзала. Немцы шли молча. Понурясь. Конвоиры скорее охраняли их от населения - да и вряд ли кому из немцев пришло бы в голову бежать. Люди, смотревшие на фрицев, в основном молчали. Вот кто ругал и проклинал - так это инвалиды. Если б не образцовое выполнение конвоем своих функций немцы бы точно получили бы по шее костылями. Но конвойные так оберегали пленных, что потом уже ругали больше их, чем немцев.
Я в это время думал, что повезло фрицам - они убивали наших, получали за это награды, а вот теперь идут здоровенькие, живые и за свои подвиги не несут никакого наказания...
С одеждой и обувью тогда было очень трудно. Мама мне отдала свою форменную черную гимнастерку со стоячим воротником, а подпоясаться мне было нечем. Без пояса вид был корявый, да и поддувало. Но ремней после блокады не осталось, их сварили, а веревкой, как граф Толстой опоясываться было неловко - засмеяли б. Кто-то из чубаровских надоумил - выменять на хлеб у пленных немецкий ремень.
Я начал собирать хлебные и булочные кусочки, которые я получал в школьной столовой. Когда накопилось с полбуханки, я отправился на Московскую улицу (совсем близко от нынешней ст. метро 'Владимирская'). Там команда военнопленных разбирала завалы разбомбленного здания.
Обойдя конвойного, я прошел вглубь развалин и столкнулся там с молодым немцем. Волновался я страшно. Вся немецкая грамматика улетучилась и я только и выпалил единственное что в голове удержалось: 'Римен?' Немец тем не менее прекрасно меня понял, я получил кивок согласия и снятый тут же при мне ремень с бляхой. Я отдал кулек с хлебом.
Наверно ему эта полбуханки была на один зуб, но время было голодное для всех и даже такое количество пищи ценилось высоко.
А я стал ходить подтянутым, с отличным ремнем. И с бляхой 'Готт мит унс', что как-то упустил из виду. Ну, как только в школе я попался на глаза завучу, мне был тут же предъявлен ультиматум - чтоб этой бляхи больше никто не видел. Ленинградцу такое носить не к лицу.
Пришлось менять бляху на добытую окольным путем пряжку...Пришил я ее некрасиво, но прочно. И ремень служил мне очень долго.
Тем временем сдалась курляндская группировка, и пленных стало заметно больше. Видимо капитуляция была почетной - потому как рядовой состав имел право носить всякие цацки. А у офицеров было право на холодное оружие, как говорили взрослые. Правда, лично я не видел офицеров с кортиками на боку, но вот награды немцы первое время носили. Потом перестали - нет смысла таскать награды на работу по разборке разбитых домов или на стройке.
Четко была видна разница между солдатами и офицерами. Не видал, чтоб офицеры работали - они только командовали, а работали солдаты. Причем на грязноватом, зачуханном фоне солдат офицеры выделялись какой-то ухоженностью, отглаженностью, форсом и респектабельностью. И я к ним относился с особой неприязнью, как к настоящим высокомерным фашистам. И это чувство так и осталось.
Чем дальше - тем меньше немцев охраняли. Конвоиров при них становилось все меньше и меньше. По-моему бывало так, что немцы ходили без конвоя, под командой своего старшего. Во всяком случае я видел, как раз на Невском проспекте, напротив Дома творчества Театральных работников как двое военнопленных, шедших без конвоя, приветствовали нашего старшего офицера с золотыми погонами - и тот козырнул в ответ.
Возможно, конечно, что эти немцы были из антифашистского комитета или еще откуда, но что видел, то видел - и было это осенью 1945 года. Мы как раз вернулись из совхоза, что располагался на площадке Щеглово, что за Всеволожском. Школьников посылали туда работать. Нас разместили в количестве 20 человек мальчишек над конюшней - там, где хранилось сено. Первое утро было яркое, отличное и мы - несколько человек вылезли на солнышко - там как раз был такой балкон для погрузки сена.
И тут из-за угла совершенно неожиданно вывернуло трое немцев - причем со знаками различия и наградами. Мы несколько оторопели, но самый шустрый из нас тут же ляпнул, встав по стойке смирно 'Хайль Гитлер!'
И получил тут же в ответ короткое рявканье на чистом русском языке: 'Чего орешь, дурак!' от одного из немцев. Мы были огорошены!
Оказалось, что вместе с нами в селе работают немцы - из курляндской...А этот парень - прибалтийский немец, переводчик.
Работая практически вместе, конечно общались. Немцы немного учились русскому (больше всего им не нравилось слово 'тафай-тафай'), мы - немецкому.
Как-то раз мой приятель похвастался новым словечком - 'фрессен' - жрать.
Что и выложил, когда мы шли на работу, заявив, что очень хочет жрать. Рядом шедший немец тут же учительским тоном разъяснил, что это 'пферде фрессен, абер маннер - эссен' И продолжил далее, что это звери жрут. А люди - едят.
Таким образом происходило общение с людьми, которые если б не попали в плен с большим удовольствием нас угробили...
Жили немцы в сарае, который стоял в чистом поле. Пленных было с полсотни. Сарай был окружен крайне убогой оградкой с символической колючей проволокой. При этом проскочить сквозь эту ограду было простейшим делом, но немцы нам на удивление старательно ходили только через воротца. Еще из культурных мероприятий был устроенный на самом видном месте насест над ямой - для оправления соответствующих нужд. Почему-то немцам больше всего нравилось сидеть там на закате, подставляя голые задницы последним лучам солнца. Большей частью они работали с нами по прополке капусты. Кто умел что-либо делать - работал в мастерских.
Работали они старательно, очень медленно и обстоятельно. Мы же старались сделать норму как можно быстрее - до обеда, чтоб потом бежать купаться. Мы думали, что немцы специально работают так тягуче - экономя силы, или не хотят выкладываться в плену...
(Когда сын копался и медлил, я всегда говорил ему, что он работает как немецкий военнопленный.
А он насмотрелся в Германии, как они работают на воле - оказалось точно так же тщательно и страшно медленно...Похоже, менталитет такой...)
Бывали и другие непонятности - у меня были неплохие отношения с двумя столярами, работавшими в столярной мастерской. Однажды я принес сляпсенный симпатичный кочан капусты. В мастерской был только один немец и я сказал ему - что кочан им на двоих - половина ему, а половина напарнику.
Очень удивился, услышав ответ: 'нет, эта капуста моя!'
Какое к чертям 'майне' - я же обоим принес! Но на мои высказывания он отвечал по-прежнему, а потом окончил дискуссию, спрятав кочан в свой шкафчик.
Мне эта выходка очень не понравилась, и появилось какое-то брезгливое отношение к человеку, который не пожелал делиться с напарником. Голода-то уже такого не было, тем более что пленным отдавали то, что оставалось от наших завтраков, обедов и ужинов.
После этого я уже в столярную мастерскую не ходил. Противны мне стали работавшие в ней фрицы. Кузнецы, правда, держались дружнее и очень любили показывать хранившиеся у них в портмоне фотографии.
Удивляли и добротные дома и автомобили и многочисленные родственники, которые улыбались и смеялись на всех снимках. Для нас, хлебнувшей лиха ребятни, это было дико и внове и думалось - какого рожна они перлись к нам - чего им не хватало?
Правда, судя по тому, что когда один из них захотел продать местным свою шинель, он привлек меня в качестве переводчика, а не своего камерада-прибалта, у них там тоже всякие отношения друг к другу были.
А в 50 годы немцы стали возвращаться в Германию. На Московском вокзале я часто видел готовые к отправке команды военнопленных.
Что меня удивляло. Так это то, что их одежда (в основном форма) вся латанная-перелатанная, но была идеально вычищена и отутюжена. Это внушало уважение.
Замечу, что ненависти при общении с живыми людьми не было. Но и дружить с ними не тянуло. Подсознательно все то зло, что они и их товарищи причинили нам - ощущалось.
И не исчезало.
7. Казнь 05.01.1946г.
В начале января 1946 года неподалеку от Кондратьевского рынка на площади поставили виселицы. Суд над 11 немецкими военными преступниками шел долго. Во всех газетах делались подробные отчеты, но мы с мамой их не читали - чего перечислять, кого и как они убили...Мы же своими глазами видели как немцы обращались с мирным населением и нового ничего нам не сообщали. Ну, нас расстреливали с самолетов и из дальнобойных орудий, а крестьян на Псковщине - из винтовок и автоматов - только и разницы. Немцы-то те же были.
Но посмотреть на казнь я пошел, тем более, что и дела были в этом районе. Толпа собралась приличная. Привезли немцев. Они держались спокойно - да в общем у них выбора не было. Бежать было некуда, а собравшиеся люди практически все были блокадники и ничего хорошего немцам бы не светило, попади они в толпу. Да и на сочувствие рассчитывать им не приходилось.
Объявили: что и как эти осужденные совершили. Меня удивил капитан - сапер, убивший собственноручно несколько сотен мирных жителей. Это меня поразило - мне казалось, что сапер - строитель, не убийца, а тут он сам - без какого-то принуждения по своей охоте своими руками убивал людей, причем беззащитных, безоружных - и ведь там и мужиков было мало - в основной -то массе - женщины и дети... Ну пехота - ладно, но чтоб сапер...
Машины, в кузовах которых стояли немцы, задним ходом въехали под виселицы. Наши солдаты - конвоиры ловко, но без спешки надели петли на шеи. Машины не торопясь поехали на этот раз вперед. Немцы закачались в воздухе - опять же как-то очень спокойно, как куклы. Немного завилял в последний момент тот самый капитан-сапер, но его придержали конвоиры.
Народ стал расходиться, а у виселицы поставили часового. Но, несмотря на это когда я там проходил на следующий день - сапоги у немцев уже были подпороты сзади по швам, так что голенища развернулись, а мальчишки кидали в висельников кусками льда. Часовой не мешал.
А потом часовой был снят с поста, а с висельников кто-то снял сапоги. Так и висели в носках...
Недавно посмотрел по телевизору воспоминания артиста Ивана Краско. Он, оказывается тоже там был. Но впечатление сложилось по его рассказу, что мы были на разных казнях - он сказал, что немцы выли и визжали, валялись по земле и их конвоиры волоком тащили под висилицы и торопясь неловко совали головы в петли, а народ был в ужасе от этого страшного зрелища и сам Краско тоже был в ужасе...
Откуда он это все взял? Никто в ужасе не был. Практически каждый, стоявший в толпе по милости таких немцев потерял кого-то из друзей и родственников. Да веселья не было, не было ликования. Была мрачная горькая удовлетворенность - что хоть этих повесили.
И немцы умирали достойно. Правда, некоторые обмочились - это было видно, особенно когда они уже висели. Но я слышал, что это часто бывает у висельников...
Но вот что точно - никто на их фоне не снимался с радостными рожами. А они очень часто запечатлялись на фоне висилиц с нашими людьми. Им это нравилось.
Еще стоит добавить, что моя знакомая - она была постарше меня и стояла в толпе ближе (определенно Ленинград - большая деревня!) - рассказывала потом, что хотели вроде, чтоб от народа выступила пострадавшая от одного из этих немцев женщина-псковитянка.
Она осталась жива, правда ее долго мясничили, отрезали грудь, а потом схалтурили и не добили толком, и она выжила. Но когда она увидела своего палача, то ее буквально заколотило и стало ясно, что выступать она не способна. Так что вроде один человек из толпы и впрямь был в ужасе. Только не от казни, от вида цивилизовавшего ее немца...
(Примечание сына.
Я решил сходить в Публичную библиотеку и покопаться в газетах того времени. Да, практически каждый день - вплоть до казни - газеты помещали отчеты из зала суда. Читать это душно. Злоба душит. Причем даже при суконном языке судейских и таком же суконном языке журналистов.
Нам который год ставят в вину 24 убитых черт знает кем немцев и немок в деревне Неммерсдорф...У нас только на Псковщине таких Неммерсдорфов были сотни...Причем сожженных дотла...Вместе с жительницами. Над которыми сначала глумились, насилуя тех, кто помоложе и покрасивее, хозяйственно забирая что поценнее...
А еще и дети ведь там были. Короче, чего там.
Вот список повешенных:
1. Генерал-майор Ремлингер Генрих, родился в 1882 году в г. Поппенвейлер. Комендант г.Псков в 1943-1944 годах.
2. Капитан Штрюфинг Карл, родился в 1912 г. В г..Росток, командир 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
3. Оберфельдфебель Энгель Фриц родился в 1915 г в г..Гера, командир взвода 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
4. Оберфельдфебель Бем Эрнст родился в 1911 г. В г. Ошвейлебен, командир взвода 1 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
5. Лейтенант Зонненфельд Эдуард родился в 1911 г. В г.Ганновер, сапер, командир особой инженерной группы 322 пехотного полка.
6. Солдат Янике Гергард родился в 1921 г. В мест.Каппе, 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
7. Солдат Герер Эрвин Эрнст родился в 1912 г., 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
8. Оберефрейтор Скотки Эрвин родился в 1919 г., 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
Приговорены к высшей мере наказания - повешенье.
Трое других - оберлейтенант Визе Франц 1909 г. рождения, комроты-1 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.;
И фельдфебель Фогель Эрих пауль, комвзвода его роты, - 20 лет тюрьмы.
Солдат Дюре Арно 1920 г. Рождения из той же роты - 15 лет каторги.
Всего судили 11 немцев. Гадили они в Псковской области, а судили их и повесили в Ленинграде.
Заседания тщательно освещались всей ленинградской прессой, (тогда журналюги работали ответственнее, но видно, что цензура работала серьезно, поэтому описания заседаний и показаний свидетелей нудные и лишены особо жареных фактов. Также видно, что объем материала был колоссальный и журналюги выдирали как попало.
А я как попало надергал из журналюг, потому как массив очень велик и собственно с моей колокольни не имеет большого смысла расписывать все - читать надоест. Всякие мелочи, вроде избиений, издевательств, пыток, повального грабежа имущества, угона скота и изнасилований женщин, сопровождавших ликвидации населенных пунктов - опускаю.
Вкратце о повешенных:
1. Генерал-майор Ремлингер - организовал 14 карательных экспедиций в ходе которых сожжено несколько сотен населенных пунктов на Псковщине, уничтожено порядка 8000 человек - в основном женщин и детей, причем подтверждено документами и показаниями свидетелей его личная ответственность - то есть отдача соответствующих приказов на уничтожение населенных пунктов и населения, например - в Карамышево расстреляно 239 человек, еще 229 загнаны и сожжены в деревянных строениях, в Уторгош - расстреляно 250 человек, на дороге Славковичи - Остров расстреляно 150 человек, поселок Пикалиха -согнаны в дома и потом сожжены 180 жителей. Опускаю всякую мелочь вроде концлагеря в Пскове и т.п.
2. Капитан Штрюфинг Карл - 20-21.07.44 в р-не Остров расстреляно 25 человек. Отдал приказ подчиненным на расстрел мальчиков 10 и 13 лет. В феврале 44 - Замошки - расстреляно 24 человека из пулемета. При отступлении забавы ради расстреливал попадавшихся по дороге русских из карабина. Лично уничтожил около 200 человек.
3. Оберфельдфебель Энгель Фриц - со своим взводом сжег 7 населенных пунктов, причем расстреляно 80 человек и приблизительно 100 сожжено в домах и сараях, доказано личное уничтожение 11 женщин и детей.
4. Оберфельдфебель Бем Эрнст - в феврале 44 жег Дедовичи, сжег Кривец, Ольховка, и еще несколько деревень - всего 10. Расстреляно около 60 человек, 6 - лично им..
5. Лейтенант Зонненфельд Эдуард - с декабря 1943 и до февраля 1944 сжег дер.Страшево Плюсского района, убито 40 человек, дер. Заполье - убито около 40 человек, население дер. Сеглицы, выселенное в землянки было закидано гранатами в землянках, потом добито - около 50 человек, дер. Маслино, Николаево - убито около 50 чел, дер. Ряды - убито около 70 человек, также сожжены дер. Бор, Скорицы. Заречье, Остров и другие. Лейтенант принимал личное участие во всех экзекуциях, всего сам убил порядка 200 человек.
6. Солдат Янике Гергард - в деревне Малые Люзи 88 жителей ( в основном - жительницы) согнаны в 2 бани и сарай и сожжены. Лично убил более 300 человек.
7. Солдат Герер Эрвин Эрнст - участие в ликвидации 23 деревень - Волково, Мартышево, Детково, Селище. Лично убил более 100 человек - в основном женщин и детей.
8. Оберефрейтор Скотки Эрвин - участие в расстреле 150 человек в Луге, сжег там 50 домов. Участвовал с сожжении деревень Букино, Борки, Трошкино, Новоселье, Подборовье, МИлютино. Лично сжег 200 домов. Участвовал в ликвидации деревень Ростково, Моромерка, совхоза 'Андромер'.
Повторюсь - не все писали журналюги и я тоже кусочки надергал, но так в целом картина боле - менее ясная. Причем пунктуальные немцы изрядно наследили - приказы, отчеты о выполнении (сукин сын Зонненфельд явно позорил звание немца - писал, судя по всему округляя, не заморачиваясь подсчетом мертвецов до единиц.).
Мне вспомнилось соревнование Толкинских гнома Гимли и эльфа Леголаса - кто больше набьет орков. Немцы этим тоже грешили, и тут их это сильно подвело - опасно афишировать такие вещи. Ну а уж если на манер Пичужкина ведешь дневник и скрупулезно записываешь: кого и как убил, да еще и чтоб подтверждение подвигу было - не обессудь, если следствие воспользуется твоей писаниной. Своей любовью к порядку в документации немцы себя утопили. Безусловно халтурили - оставляли недобитых свидетелей и те возникали как черт из табакерки в ходе заседаний.
Также дурную службу им сослужила привычка кивать на командование. Закладывали они друг друга по-черному. Ни о каком товариществе и взаимовыручке и речи не шло. Причем начиная от подчиненных - и к командирам. Комично то, что до назначения комендантом в Пскове генерал Ремлингер был начальником тюрьмы в Торгау - а Зонненфельд в это время у него сидел заключенным. И он в зондеркомманде был не один такой.
Примечательно, что у фрицев были адвокаты, и они старались. Например, адвокат генерала упирал на то, что часть карательных подразделений не подчинялись коменданту Пскова.
Но комендант и без посторонней гопоты хорошо поработал.
Впрочем, троих из одиннадцати удалось увести из-под виселицы. Ну, эти трое - дети какие-то, у самого результативного всего 11 лично убитых. Подумаешь, всего-то десяток русских...
Лично у меня сложилось впечатление, что эти части для фронта не годились по причине слабосилия, а вот деревни жечь могли. Вот они и одолевали комплекс неполноценности. А то - после войны заговоришь с фронтовиком - ты сколько Иванов убил - шесть? Ха! А я 312 - и фронтовик посинеет от позора...
Сама казнь проходила в 11 часов утра 05.01.1946 года на площади перед кинотеатром 'Гигант' (сейчас казино 'Конти'). Народу собралось много. Судя по документальной кинохронике, мой отец более точен (правда, у него слипся капитан-пехотинец с лейтенантом сапером) - стояло 4 виселицы (буква П), по две петли на каждой.
Немцы в момент казни были без ремней и шинелей, без головных уборов и наград. Их поставили в кузова больших грузовиков и машины задом подъехали к виселицам. Далее конвой надел петли на шеи и машины медленно поехали вперед. Немцы сделали пару шагов - и кузова кончились. Вели себя и немцы и конвой спокойно, как и публика. Никакого ужаса, воплей, визгов... Ногами немцы тоже не дрыгали. Ну, а насчет снятых сапогов там уже не показывали... Отец рассказывал - Продолжение. Родился я в 1931 году. Поэтому все мое детство попадает на тридцатые годы двадцатого века. Забавно представить себе, что это было больше 70 лет тому назад. Мой папа был служащим Управления Кировской железной дороги, его отдел занимался ликвидацией последствий аварий на Мурманской ветке. Умер от голода в январе 1942 года. Мама - занималась детьми (мной и моим братом), домашним хозяйством, время от времени устраивалась на канцелярскую работу (она окончила гимназию) Брат, старше меня на 5 лет, погиб на фронте в 1943 году. Остальных родственников не помню, многие попали под репрессии, может быть поэтому. Дедушка, бабушка и тетя со стороны отца были сосланы на север в период коллективизации и там умерли. Дедушка со стороны мамы умер от тифа после того, как его, сидевшего в тюрьме и заболевшего там тифом, обменяли на рояль. Умер поэтому дома, на следующий день после освобождения, 1918 год. Арестован был как министр какого-то очередного белого правительства, тогда такие плодились как грибы, вот и ему предложили, как почетному гражданину г. Орел поучаствовать в самоуправлении. Министром чего он был я уж и не помню, правительство это функционировала вроде бы пару недель, потом в Орел пришли красные. Дядя со стороны мамы был командиром красного бронеотряда (какие-то броневики), пропал без вести после ареста в 1938 году. Другой после ссылки в 1920 болел долго туберкулезом. Первое яркое впечатление. Первое яркое впечатление - я в больничной койке. Рядом мама. Я поправляюсь после перенесенного брюшного тифа. Помню врача. Он говорит, что мне уже можно давать кефир. Что может быть вкуснее кефира?! Однако баловали меня кефиром, только пока болел, видно не слишком просто его было доставать. Ведь это был голодный год. Помню, что тот кефир не выливался из бутылки, и его приходилось вытряхивать, постукивая рукой по донышку. Я как завороженный следил, когда же мне нальют этот божественный напиток в чашку. Дом Перцева, (Лиговка, 44) Все мое детство прошло в этом уникальном по тем временам доме. Предприниматель Перцев сделал подарок Советской Власти, 'сдав под ключ' этот гигантский жилой массив в 1918 году. Этот дом, расположенный рядом с Московским вокзалом был сразу отдан в распоряжение Октябрьской и Кировской железных дорог. В нем проживало при мне около 5000 человек. Жили в нем в основном железнодорожники с семьями и какое-то количество работников НКВД. Они резко отличались от железнодорожного люда своей яркой формой и упитанным видом. По Лиговке мимо нашего дома очень часто проходили похоронные процессии. Они направлялись к Волковскому кладбищу и всегда были разные - от скромных, когда гроб везли на грузовой автомашине с открытым кузовом до богатых, когда гроб стоял на роскошном катафалке, запряженным парой украшенных перьями лошадей. (Такой катафалк как раз показан в фильме 'Веселые ребята') Однако я отвлекся. Ребят в нашем доме было много. Грозой ребят были дворники и швейцары. Дворники в основном своем большинстве носившие бороды и потому походившие на карточных королей, держали всю шаловливую ребятню под неусыпным вниманием. Стоило кому-нибудь провиниться, как он тут же оказывался в руках дворника, тот отводил его к родителям на разбирательство. Швейцары (при парадных подъездах) гоняли детей с лестниц на улицу, а на ночь закрывали подъезды на ключ, и припозднившимся жильцам приходилось звонить швейцару, чтоб тот впустил их домой. За 'беспокойство' швейцару тут же платили. По своему тогдашнему возрасту я со швейцарами дел не имел, а дворников остерегался. Играли мы тогда в лапту, в штандер, прятки, салочки и конечно в войну. Праздником для ребят был приезд лоточника с мороженным. Продавец ловко укладывал в специальное приспособление круглую вафельку, клал на нее порцию мороженного, сверху накрывал еще одной вафелькой, и это сооружение, нажав на рычажок, выталкивал в виде аккуратного кругленького мороженного в руки счастливого юного покупателя. То мореженное было особенным - то ли потому, что малых размеров, то ли потому, что делали его из настоящих сливок. Привозили бочки с хлебным квасом - куцые, на двух автомобильных колесах с торца открывался кран и полочка для кружек и мелочи, сама продавщица сидела рядом на стульчике. Из кваса делали окрошку или просто пили тут же. Во дворе все было весело и шумно, но в кругу семьи все сложности того времени о себе напоминали. Родители покупали в магазине сливочное масло, колбасу и сыр помалу, в пределах 100 - 300 граммов, потому, что тогда не было холодильников, да и стоили эти товары дорого. По утрам квартиры обходили продавцы сдобных и французских булочек, пекарня была в нашем же доме, внизу. Молоко приносила знакомая молочница, которая очень плохо владела русским языком, мы ее между собой звали чухонкой. Молочные продукты тоже были недешевы и покупались помалу, в ограниченных количествах. Мама летом как правило не работала, а занималась домашним хозяйством, пока отец работал один, режим экономии в семье особенно ощущался. Запомнилось, что в годы моего детства часто надо было стоять в очередях, как только в магазин что-либо интересное привозили. Как тут же выстраивалась очередь, причемрядом со взрослыми тут же становились и дети. Это позволяло взять товара больше. Товар зачастую очень быстро продавался и те, кому его не хватило, ругали счастливчиков. Очереди всегда были за постным маслом (оно было в большом ходу), его продавали в разлив, за мясом становились в очередь до открытия магазина, тогда можно было выбрать кусочек получше, мясники в ту пору были уважаемыми людьми. Очереди были частым явлением, обычным. Касалось ли это съестного или одежды или обуви. Все жили очень скромно и те, кто мог позволить себе купить велосипед считались богатенькими. Брат. С братом мы посещали довольно часто кино. Запомнился фильм про пионеров, предотвративших крушение поезда и поймавших шпиона. Там были кадры, когда паровоз стремительно несется прямо на зрителей, в зале был переполох, кое-кто шмыгнул под кресло, а мы с братом снисходительно на них посматривали - у нас папа был железнодорожник и нас паровозом было не испугать! Конечно такие фильмы, как 'Волга-Волга', 'Цирк', 'Мы из Кронштадта', 'Праздник святого Йоргена' мы с братом смотрели по нескольку раз. Папа на художественные фильмы никогда не ходил, принципиально. Неизгладимое впечатление произвели на нас Диснеевские мультфильмы. Несколько раз отец приносил с работы однодневные путевки в Сад при Дворце Пионеров, там дважды в день кормили и весь день развлекали. Было очень интересно. Брат меня все время опекал, но был строгим и справедливым. Тогда я многого не понимал и доставлял брату довольно часто огорчения, когда вредничал, бывали с ним и стычки, и мне доставалось от него, как правило. (Если бы не брат, я не пережил бы блокаду). Летом мы втроем с мамой часто ездили на Кировские острова втроем. Мама заготавливала бутерброды, морс в бутылке и мы весь день проводили в прекрасном парке. Садились у Знаменской церкви в новенькие трамвайные вагоны, которые назывались американскими и ехали на полюбившиеся острова. Пожалуй, это были самые безоблачные времена. Аресты. Серьезные опасения переживала каждая семья, когда пошла волна арестов. Мой папа, служивший в занимавшемся инженерными сооружениями отделе Управления Кировской железной дороги, после очередной аварии приходил с известиями, что вот, арестован такой-то. Арестованный просто исчезал, исчезали и члены его семьи. Когда в отделе старых сотрудников осталось совсем мало, папа взял и ушел с этой работы по собственному желанию, пошел работать в организацию занимавшуюся местной промышленностью, там почему-то не сажали. Первым делом он с облегчением снял стоявший у нас телефон (редкая была по тем временам вещь), чтоб больше его не вызванивали, что бывало очень часто и в основном по ночам. После таких звонков папа исчезал на некоторое время, потому как надо было ехать на аварийный участок и обеспечивать восстановление проходимости через аварийный участок. Аварии были часто, инженерные сооружения были в плачевном состоянии, особенно из-за того, что какому-то высокосидящему революционеру пришло в голову пускать особо тяжелые 'революционные' длинномерные составы. На это железнодорожные сооружения рассчитаны не были и стали разрушаться в ускоренном темпе, что приводило к увеличению аварий. Примерно в это время (1938) был арестован наш сосед по квартире. Произошло это ночью. Мне запомнился стук сапог, рыдания за стенкой жены и дочери соседа (моей ровесницы), покрикивания нквдшников, но больше всего испугал напуганный вид моих родителей. Через неделю исчезла из квартиры и жена и дочка. Внизу, под нами, проживал довольно богато видный спец с семьей. Скоро арестовали и его, а семью сослали. Тут же опустевшую квартиру занял красавец НКВДшник с красивой юной женой. Через пару лет он тоже был арестован, а совсем молодую жену разбил паралич. Вместо них заселился другой сотрудник НКВД, но о его судьбе я уже ничего не знаю. Во всяком случае, когда арестовывались сотрудники НКВД, их никто не жалел. По ночам слышались моторы 'воронков'. Состояние даже у меня было такое, что кругом враги, надо помалкивать, делиться мыслями с кем-либо было опасно. Если на человека кто-нибудь писал донос, что было тогда обыденным явлением, то при аресте никто разбираться не будет, правдивый был донос или нет, сначала посадят. Тогда же много народа попало в тюрьму за опоздания на работу - достаточно было опоздать больше чем на 20 минут. Учебные пособия, которые так помогли... Конец марта 1942 года был холодным. Благодаря вовремя подвернувшейся спекулянтке, которая продала маме немного сахарного песку, овса и флакончик горчичного масла я буквально воскрес из мертвых и повторно в своей жизни научился ходить, страшно обрадовавшись тому факту, что смог сам обойти обеденный стол. Как только мне стало немного лучше, брат настойчиво стал пытаться вытащить меня на улицу, но у меня не было сил, да и боялся я, что ноги снова откажут. Однажды брат обратился ко мне с предложением сходить вместе с ним на Гончарную улицу. Там внутри жилого квартала в здании школы был развернут госпиталь, но немцы его разбомбили. Здание сильно пострадало, две стены просто обвалились, но брат приметил там неснятую дверь, которую можно было бы использовать для отопления нашей комнаты. Я решился на это рискованное мероприятие, несмотря на ватные ноги и непомерную слабость. Кое-как после долгого перерыва спустился по лестнице, и мы вышли во двор. Ноги были как не мои, но идти все же было можно. Несколько раз по пути падал, брат довольно ловко поднимал меня за шиворот и снова ставил на ноги. При этом меня он еще и поругивал, что стимулировало собрать силенки и двигаться дальше. Солнечный день, на улице совсем мало людей. Нас обогнала тощая лошаденка, запряженная в розвальни - там военный вез какие-то мешки и ящики. Я еще подумал, что вот лошаденка эта- тоже дистрофичка, а нас обогнала, хотя у нее четыре ноги и у нас с братом - тоже четыре. Шли по протоптанной в снегу тропиночке, я впереди, брат сзади, следил, как я иду. Разваленный бомбой дом производил жутковатое впечатление, с выбитыми окнами и дверьми, обвалившимися стенами. Брат привел к входу, откуда можно было, как он разведал, забраться наверх, несмотря на то, что подъезд был завален грудой битого кирпича и мусором, а лестница большей частью осыпалась. До второго этажа пришлось мне проползти по торчавшим из стен огрызкам ступенек, лестничные пролеты обвалились. А вделанные в стену части ступенек позволяли по ним перебираться наверх. Полз по этим обрубкам с активной помощью брата очень долго. Лестничная площадка устояла и с нее вправо и влево зияли пустые дверные проемы. Влево был виден перемешанный со снегом ералаш из гнутых и покореженных больничных коек с грудами какого-то страшного на вид тряпья, а вправо проем через тамбурок вел как раз туда, где брат приметил дверь. И сквозь оба проема была видна улица - стены то рухнули. Доски перекрытия висели в воздухе и плавно и медлительно пружинили под нами. Сразу за тамбурком мы нашли несколько чудом уцелевших довольно больших деревянных ящика. Сияло солнышко, было очень тихо и морозно, а мы с братом стояли на этом импровизированном колышащемся под нами балконе, который вполне мог под нами обрушиться любую минуту. Но тогда нас это нисколько не заботило. Брат по-деловому вскрыл ящики. Там оказались учебные пособия по биологии и ботанике. Поразило громадное страусиное яйцо, к нашему глубокому огорчению - легкое и пустое - кто-то давным - давно через маленькие дырочки выдул оттуда содержимое. Обрадовала чудесная коллекция всевозможных бобовых и злаковых культур, каждая из которых лежала в своей картонной ячейке под тонким стеклом. Эта коллекция дала нам возможность ознакомиться и оценить эти культуры в вареном виде, и хоть там было по маленькой горстке каждой культуры, находка была замечательной. Поразила коллекция великолепных по своей красоте бабочек, они размещались в аккуратных коробочках, тоже под стеклом. Много было еще всякой всячины, словно сокровища нашли. Но бобовые и зерновые были самым ценным. Дверь снимать и ломать не было уже никакой возможности, да и ломаные доски от верхних перекрытий, щепки от них вполне годились взамен. Набрали полны руки, то есть авоськи, конечно. Надо было теперь выбираться обратно, а это было совсем нелегкой задачей. Во-первых мы оба устали, а я в особенности, во-вторых были нагружены тяжело, в третьих надо было опять преодолеть разрушенную лестницу, теперь уже вниз. С помощью брата под его грозные понукания кое-как спустился. Но очень долго прокорячился, ноги плохо слушались. Когда мы с добычей шли домой уже солнце село, становилось темно. Мама очень обрадовалась, что мы вернулись благополучно, а сваренная из 'коллекционной' фасоли на щепках от досок похлебка получилась невиданно вкусной. И это была только одна ячейка из этой замечательной, несущей нам спасение коллекции.
Перед войной часто устраивались учения ПВО. Мы уже привыкли к тому, что люди носят сумки с противогазами и только опасались попасть во время этих учений на носилки - как пострадавшие или раненые - чревато было потерей времени до конца учений.
22 июня 1941 года началось с солнечной, теплой погоды. Мы с папой и старшим братом отправились в город, на очередную прогулку-экскурсию. Папа обычно водил нас по городу и показывал интересные уголки.
Сообщение Молотова мы слушали в начале Большого проспекта ВО. У всех, кто стоял рядом, появилась какая-то озабоченность, большинство было потрясено. Запомнилось на всю жизнь, как папа грустно сказал: 'В какое интересное время мы живем!'
Начиная с июля месяца, стали собирать цветные металлы, лопаты. Этим занимались в нашем домоуправлении и мы - мальчишки и подростки были на подхвате.
На крыше нашего дома установили счетверенный зенитный пулемет. Расчет был из пожилых (с нашей точки зрения - стариков). Нам они разрешили помогать и мы с энтузиазмом таскали на чердак ящики с патронами. Ну не совсем таскали - ящики были маленькие, но очень тяжелые, поэтому приходилось вдвоем - втроем кантовать ящики со ступеньки на ступеньку.
Могу только представить себе, как тяжело было солдатам затаскивать на крышу счетверенный максим, да еще и с тяжеленной опорной тумбой. Дом наш был семиэтажный, дореволюционной постройки - 'Перцевский Дом' - он и сейчас стоит на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Собственно это даже не дом - это целый квартал, построенный братьями Перцевыми в 1917 году, причем в нем были запланированы магазины, гостиницы, театр и разных категорий квартиры на сдачу. Здоровенный доходный дом-комплекс. Он был в ведении Управления ЖД Октябрьской и Кировской и жили там семьи железнодорожников, а после волны репрессий в конце 30 годов - и НКВДшники., въезжавшие в освободившиеся после ареста комнаты. Жизнь у них видно тоже была интересна - в самом начале войны один из них застрелился из охотничьего ружья прямо у себя на балконе - так что его было видно с нашей кухни. Столько кровищи из него натекло - я даже после артобстрелов такого не видел.
О размерах дома судите сами, если в 1941 году в доме жило около 5000 человек. Квартиры, естественно были коммунальными. В рассчитанные при постройке дома на 1 семью среднего достатка комнаты селилось по 3-4 семьи. Высокие потолки в блокаду сыграли свою роль - таскать все по лестницам - с большими маршами - было очень сложно.
Потом мы таскали песок на чердак. Там же видели, как все деревянные части тщательно промазывали какой-то жижей. Говорили, что это убережет от пожаров, если будут бомбить наш дом зажигательными бомбами.
Песок таскать было легче, чем патроны, но не так интересно. Все это мы делали добровольно. Опасность, которая витала в воздухе, подстегивала нас помогать взрослым.
С каждым днем становилось все тревожнее. В городе появилось много беженцев, с мешками, узелками, некоторые с коровами. Вид у всех был пришибленный.
Мгновенно исчезли продукты, появились карточки.
Начались бомбардировки. Сгорели Бадаевские склады, также немцы прицельно били по тем местам, где были рынки. Неподалеку от нас была барахолка - по ней тоже досталось.
Помню, вечерело, светило солнышко, а на полнеба был гигантский шлейф черного дыма -от горящих Бадаевских складов. Страшное и дикое зрелище. От такого вида становилось жутко.
Очень тревожило стремительное продвижение немцев. Совинформбюро было немногословным, но тревога росла, чем дальше, тем больше. Похоже, что не было силы остановить эту стремительно прущую лавину.
Папа был направлен на строительство оборонительных сооружений.
Изредка он заезжал домой и привозил с собой то пшена, то чечевицы.
(Забавно видеть сейчас в магазине продающуюся по высокой цене чечевицу - в то время чечевица считалась фуражом для лошадей и то, что мы стали ее употреблять в пищу, тоже было знаком беды.) Папа не распространялся о том, что ему приходилось видеть, но чувствовалось, что положение у нас аховое. Он как-то высох, почернел, был весь в себе. Визиты были очень кратковременными, иногда спал пару часов и снова уезжал.
В конце июня нашу школу эвакуировали в деревню Замостье, километрах в 10 от ст.Веребье. Окт. Ж.д.
Как моя мама ни противилась этому, мне пришлось ехать. Мама попросила соседку, поехавшую вместе со своими сыновьями-близняшками, чтоб соседка и за мной присмотрела. Мне кажется, что в этой эвакуации я пробыл от силы недели 3, а то и меньше. Я не говорю о том, что бытовая сторона была плохо подготовлена. Спали в избах на соломе. Питание тоже было убогое и есть хотелось.
Соседка устроилась получше, да и детям своим еду прикупала, да и готовила им сама.
Одним прекрасным вечером, когда мы вернулись с работы по прополке грядок от сурепки, произошло примечательное событие - вдоль главной деревенской улицы стремительно полетел немецкий самолет очень низко, на бреющем полете. Отлично его разглядели. Я тут же написал об этом в письме домой. Через несколько дней за мной приехал брат и мы вместе с соседкой и ее близнецами отправились домой. Администрация школы, бывшая там же в деревне особо этому не противилась.
На станцию шли ночью - днем немецкая авиация уже вовсю расстреливала все, что двигалось по дорогам. Через определенные участки пути останавливали дозоры - проверяли документы. Соседка устроилась с детьми на возах с сеном, ехавшими тоже на станцию, а мы с братом шли и пели шуточную песню про 10 негритят, которые пошли купаться в море и почему-то тонули один за другим.
На следующий день уже ехали в поезде в Ленинград. У станции Малая Вишера увидели из окна распластавшийся на насыпи немецкий самолет. Падая, он повалил с десяток телеграфных столбов.
Оказаться снова дома было счастьем. Все время эвакуации я ни разу не мылся в бане, да и кормили плохо, все время есть хотелось. Работали мы на прополке сурепки. Мощный цветок - размером с нас. Красивая такая, а вот на пропалываемых грядках чего-то ничего не было, кроме этой сурепки...
Чудово немцы захватили 21 августа. Значит, мы проскочили с братом за пару недель до этого. Что случилось с остальными детьми, оказавшимися под немцем - не знаю. Но вряд ли многие из них выжили, с теми одноклассниками, что там остались я потом не встретился..
Папа был на оборонных работах, мама тоже на работе, брат выполнял какие-то поручения домуправления. А я играл с ребятами на дворе, рядом с работой мамы. (Когда в этот дом попала бомба, нас к счастью рядом не было.) Возвратился на некоторое время папа. Рассказывал, что на дороге много разбитой техники, авиация немцев свирепствует, буквально ходит по головам, гоняется даже за одиночками и без всякой пощады расстреливает беженцев, хотя с бреющего полета отлично видно, что это не военные. На дороге по обочинам множество трупов - женщины, дети, особенно ему запомнились учащиеся 'ремеслух' - мальчишки-подростки из ремесленных училищ жались друг к другу - их трупы лежали буквально кучами. Это почему-то его потрясло особенно.
Он был в подавленном состоянии, мы его таким никогда не видели, он был очень сдержанный человек. Впрочем, долго отдыхать ему не пришлось - оборонительные сооружения продолжали делать - уже на ближних подступах, а как специалист он ценился (у него не было высшего образования, но был богатый опыт работы на инженерных должностях, до войны он работал в отделе по ликвидации последствий аварий на Кировской железной дороге, перед самой войной перешел на другую работу поспокойнее, потому что в отделе многих посадили, да и возраст уже - ему было 55 лет.)
В это время уже начались регулярные артобстрелы.. В основном ударам подвергался район площади Труда и мы с мальчишками бегали туда собирать осколки. На кой черт они нам были нужны - непонятно, но собранным рваным железом гордились, глупенькие коллекционеры. Потом это быстро прошло, новизна очень скоро закончилась.
Однажды вечером (конец августа - начало сентября) я был на углу Гоголя и Гороховой. Уличное движение регулировала низенькая полная девушка в военной форме и какой-то плоской каске. Как только прозвучал сигнал воздушной тревоги, пронзительно что-то провизжало - я еще успел заметить, как что-то косо мелькнуло в воздухе. Бомба попала в особняк известной графини рядом со стеной соседнего дома (там потом была здоровенная брешь). Успел еще заметить, как регулировщица комично пригнулась.
Интересно, что рядом с этим местом во время взрыва проезжал троллейбус - там он и остался. Я быстро убрался в ближайшее бомбоубежище, а после отбоя ВТ на месте взрыва на месте клубилось большое облако дыма и пыли. Говорили, что немцы сбрасывают какие-то комбинированные бомбы. Выла эта бомба премерзко.
Забавно, что сейчас утверждают, что это здание в блокаду не было повреждено - читал недавно в книжке - а у меня на глазах в него попала бомба... Была там к слову медчасть НКВД...
В это время были беспрерывные бомбежки по ночам. Мы несколько раз спускались по темной лестнице в подвал, куда нас пускали постоять в коридоре те, кто там жил. Так мы спускались несколько раз за ночь вниз. А потом так же по темной лестнице лезли обратно на свой 4 этаж ( по высоте соответствует 6 этажу современных зданий - чтоб понятнее было.)
Потом мы отказались от такого удовольствия, решив, что суждено - то и будет. Да и папа оценил защитные свойства нашего подвала очень низко.
На сигналы тревоги не реагировали, как спали, так и продолжали спать.
Налеты производились большим количеством самолетов. Если и оказывалось какое-то сопротивление - то я его не видел. Несколько раз я выходил во двор во время воздушных тревог - это были лунные ясные ночи и на высоте звучали характерные звуки моторов немецких бомбардировщиков - одновременно какие-то занудные и тревожные.
Наших истребителей я что-то не слышал и не видел. Зенитки - те тарахтели и иногда и 'наш' пулемет стрелял...
Потом в ходу было шуточное подражание диалогу зениток и бомбардировщиков:
- Везу-везу-везу...
- Кому-кому-кому?
- Ваммм...Ваммм...Ваммм
Слухи в это время ходили самые разные, а то, что было много раненых еще и усугубляло ситуацию. Скрыть такие количества было сложно. Многие школы экстренно занимались под госпиталя. Об учебе и речи не было - в нашей школе был пункт для проживания беженцев, а в соседней тоже был развернут госпиталь, и там полно было наших раненых. Правда несколько школ - очевидно непригодных для таких целей и в блокаду работали как школы.
Беженцев тоже было много, а в связи с блокадой им и деваться было некуда. В основной массе они были из сельских районов, и в городе им пришлось несладко. Полагаю, что большей частью они погибли в блокаде - на нерабочих пайках, без поддержки соседей и родных в промерзлых школах выжить им было практически невозможно.
Другой категорией практически полностью погибшей - были мальчишки из 'ремеслух'. В основном они были иногородними, жили в интернатах и по большому счету никому не были интересны - для работы - недоучки, а по возрасту уже не дети. А умишки-то еще детские. Да и руководство у них тоже отличилось - я слышал, что было несколько процессов с расстрельными результатами, потому что руководство 'ремеслух' занималось колоссальными махинациями с продуктами, предназначенными для учащихся.
Один из типажей, характерных для блокады - обезумевший от голода подросток-ремесленник.
Даже наша семья с этим столкнулась...
Каждый день приносил новые - и все время плохие новости. А я ходил с мамой на работу и с нетерпением ждал времени, когда пойдем в столовую (угол Гороховой и Мойки) - есть так называемый дрожжевой суп. Жидкая мутная похлебка с твердыми крупицами неизвестного происхождения.
До сих пор вспоминаю с удовольствием. Когда мы стояли в очереди - по большей части на улице - мы, конечно, подвергались опасности попасть под артобстрел, но нам везло, снаряды падали в это время в другом районе.
По дороге на работу с каждым днем добавлялось все больше разрушенных бомбами домов. Разнесло дом Энгельгардта. Прямым попаданием разрушило дом напротив дворца Белосельских-Белозерских...На меня очень гнетущее впечатление произвело разрушенное здание на углу Гоголя и Кирпичного переулка. Все здание рухнуло, кроме одной стены.
Из-за того, что она была очень неустойчивой, ее завалили прямо при мне, зацепив ручной лебедкой. Лебедка стояла в подъезде Банка. Было здание - и нету. Ни о каких спасательных работах и речи не было - там за жидким деревянным забором на разборке поработало полтора десятка девушек из МПВО. Да и работали они несколько дней. А наверху - на каком-то огрызке перекрытия осталась стоять кровать.
Вечером возвращались домой. Брат к этому времени что-нибудь уже выкупал по карточкам. Ужинали уже втроем. Состояние было такое, что немец неотвратимо будет захватывать город.
У меня было два стальных шара от шаровой мельницы, диаметров 60-70 мм. Я прикидывал, как только немцы появятся во дворе - я эти шары в них брошу...
Все-таки в 10 лет мальчишки глупенькие...
А у мамы на работе я занимался тем, что решал задачи по арифметике за 3 класс - с помощью арифмометра. Это было очень занятно! Что-то читал. Ничего не запомнилось, вероятно, потому, что все мысли были о куске хлеба.
Интересно то, что когда человек просто проголодался - он мечтает о чем-то вкусном, каких-то блюдах сложного приготовления, а вот когда голодает уже серьезно - тут все мысли именно о хлебе - убеждался по многим блокадникам. Мой сосед - Борька - до голодухи мечтал о том, как ему после войны купят 'тогтик' (он был картавым), а потом уже - как задистрофел - и до своей смерти в декабре - мечтал только о 'хлебце'.
И в семье моей будущей жены - то же самое было.
По-прежнему никакой информации о положении на фронте. Совинформбюро скупо сообщало о сдаче городов. А что творилось под Ленинградом - было совершенно неизвестно. Хотя рокот канонады звучал все время и было понятно, что это и город обстреливают (что погромче грохало) и под городом идет жуткая молотилка.
Сообщения типа 'На Ленинградском фронте Нская часть провела успешную операцию. Убито 500 солдат и офицеров фашистских захватчиков, уничтожен 1 танк' никакой ясности не давали.
В городе все передавалось шепотом из уст в уста. Здесь была и правда и вымысел, но как ни старалась наше руководство, всем было ясно - положение очень тяжелое, может быть даже катастрофичное.
Дома начались новые проблемы - с ноября как-то вдруг стало очень холодно. Папа заранее позаботился, достав нам буржуйку - жестяную печку и трубы. Мы одни из первых установили эту печурку и могли и обогреться и вскипятить чайник и еду подогреть. Дело в том, что до войны пищу готовили на керосинках и примусах. Для этого использовали керосин. Но осенью керосин кончился.
Встал вопрос - где брать дрова? Брат вооружился фомкой - коротким ломиком - и во время своих походов добывал какое-нибудь дерево - чаще всего притаскивал отодранные откуда-то доски. На плечи брата - ему было на пять лет больше, чем мне - легла основная нагрузка. Я сейчас содроганием думаю, как же ему было тяжело, он буквально вытягивал семью, добывая дрова, выкупая хлеб, съестное. Как ему хватало сил? Со мной он был суров и требователен. Он вообще был образцовым. А я был разгильдяем.
Встал водопровод в ноябре. Отопление естественно тоже отсутствовало...
Вот тут мы и убедились - чем больше благ цивилизации, тем тяжелее от них отказываться. Мы стремительно скатились буквально в пещерный уровень быта.
Надо отметить, что чем примитивнее люди жили до войны - тем им легче было в блокаду. Недавно видел воспоминания актера Краско - его семья жила на окраине в деревенском доме со стороны финской части блокады. Так они вошли в блокаду с туалетом, колодцем, дровами, своей нормальной печкой, огородом и запасом еды с этого огорода. У них сначала даже молоко было.
Ну и немецкие дальнобои и авиация по ним не долбали, а у финнов возможностей обстреливать и бомбить не было - выдохлись они уже к тому времени.
Также чуть легче было тем, кто жил в домах с печным отоплением. Таких домов в центре и сейчас много. А наш дом был передовым - с центральным отоплением. Водопроводом. Электричеством. Канализацией.
И все это кончилось.
Единственно хорошее - бомбежки практически закончились. От падения бомб наш домина качался как корабль на волнах (никогда бы не подумал, что такое возможно, и он при этом не развалится). Напротив нашего дома упало три бомбы двухсотки. Первая разнесла вдрызг пивной ларек. Вторая влетела в шестиэтажное здание напротив. Третья - через дом. Говорили, что якобы их сбросила немецкая летчица, ее сбили и взяли в плен.
Зато артобстрелы стали чаще и длились дольше.
Я должен был таскать воду и выносить нечистоты в 'параше' - ведре. Для меня это тоже была приличная нагрузка, я сильно ослабел от голода и холода и слабел с каждым днем больше. Голод не давал и заснуть, мучила бессонница. Хотя ложился спать одетым и накрывался несколькими одеялами и пальто, согреться было очень сложно. Ни бомбежки, ни постоянные обстрелы так не изнуряли, как холод и голод. Сна как такового не было. Было пунктирное забытье.
Очень давило отсутствие света. На день от светомаскировки открывали кусочек окна. Но в ноябре у нас день короткий и в основном пасмурно. У меня скоро появилось забавное явление - когда смотрел на источник света - коптилку, печку - все было с радужным нимбом. К грохоту разрывом мы очень быстро привыкли - когда было тихо - это удивляло, но немцы постоянно долбили по городу, так что где-нибудь да грохало.
А вот к голоду и холоду привыкнуть было невозможно. Болело и ныло нутро и все время была какая-то мерзкая изнуряющая дрожь. Хотелось что-нибудь погрызть, пососать.
В нашей семье каждая пайка делилась на три части. (Трехразовое питание). Когда получал очередную треть, резал ее на тонкие пластики и эти пластики прикладывал к раскаленной стенке буржуйки. Сразу образовывалась корочка. Такой ломтик даже не жевался - сосался, и корочка позволяла продлить действие, обмануть себя - вроде как долго ел - значит много съел. С несколькими такими ломтиками выпивалась кружка кипятку, а если можно было - то какой-нибудь 'заварушки'.
Все что можно было съесть в доме - и несъедобное по мирным меркам - все было съедено.
Мы довольно долго ели студень из столярного (казеинового) клея, благо папа сделал запас из 10 плиток. Мама готовила студень с лавровым листом и теми специями, что нашлись в доме. Когда мама готовила очередную порцию студня, был праздник. Студень раздавался небольшими порциями. Не могу сказать, что даже в то время был вкусным. Но все ели с удовольствием.
Пытались варить ремни, но у нас ничего из этого не вышло - потом узнал, что есть можно только сыромятную кожу.
На дрова шла мебель. Меня удивляло, что брат плакал, когда колол и пилил нашу мебель. У меня не было никакой жалости к вещам, лишь бы хоть ненадолго погреться.
Когда читаешь книги о блокаде, узнаешь, что битва за город шла все время, не переставая, не считаясь с потерями. Наши остервенело пытались прогрызть немецкую оборону, немцы так же не считаясь с потерями пытались удавить город. Мы же практически жили не ведая, что происходит у стен города. Только грохотало все время.
Каждое утро, пока были силы, я вставал вместе со всеми. Задача принести воды - я таскал в трехлитровом бидоне - была для меня очень тяжелой. Главное, что хлебные нормы выдачи по пайку все время уменьшались, уменьшались и силы. Мы еще раньше решили, что мне больше не стоит ходить с мамой на работу. Я стал оставаться дома.
Воду сначала брал в колонке во дворе. Таскать бидон наверх с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее, хорошо хоть колонка была во дворе. Вот нечистоты таскать было проще - во-первых, тяжесть несешь вниз, а во-вторых, нечистот с каждым днем становилось все меньше и меньше, в точном соответствии со старой медицинской поговоркой: 'Каков стол - таков и стул'. Стол был крайне убогий - соответственно и стул усох до минимума.
Недавно читал воспоминания о блокаде сотрудника Эрмитажа. Его приятель, успевший эвакуироваться до блокады, потом ему рассказывал, что ему изорвали все книжки в библиотеке и нагадили кучами дерьма, чуть не слоем на изорванные книжки... Как-то странно - и то, что книги изорвали, а не сожгли и главное - откуда столько дерьма взяли...
Мы сливали нечистоты в ливневой колодец на заднем дворе за домом.
Чем холоднее становилось, тем большее время я проводил в постели - ноги плохо слушались, да и делать, в общем-то, было нечего.
Печку топили два раза в день - вскипятить воду. Дров не было. Мебель почти всю сожгли, а брат много принести не мог.
Однажды он пришел вечером страшно взволнованный. Ходил за хлебом, была как всегда очередь, покидать ее было нельзя, с хлебом были перебои, и потому с пайком он шел в уже полной темноте. (А темно было везде - на улицах, во дворе, в подъезде, на лестнице, в квартире - света же не было. Многие носили специальные значки, вымазанные фосфорной краской и тускло светившиеся поэтому - чтобы друг на друга не натыкаться.)
Говорит маме: 'Я, наверное, человека убил. На меня в подъезде напал ремесленник, хотел хлеб отнять' Брат ударил напавшего фомкой по голове и тот упал. Даже я почувствовал серьезность момента.
После некоторых раздумий мама пошла проверить.
Возвратилась радостная - ремесленника в подъезде не оказалось!
Все вздохнули с облегчением.
Комната от нашей коптилки и буржуйки скоро вся закоптилась. Да и мы тоже. Стала замерзать вода. Стало совсем не до мытья, да и колонка, поработав с перебоями, отчего приходилось и ходить чаще и ждать на морозе, умерла совсем. Пришлось искать другие источники воды - а это и путь длиннее и идти больше, больше сил расходовать.
Бесперебойнее всего работала колонка в подворотне школы ? 205, что на Кузнечном переулке. Даже в сильные морозы там можно было добыть воду. Пишу 'добыть' не случайно - ослабевшие люди и расплескивали воду и разливали свои посудины, падая на буграх льда вокруг колонки - и льда становилось все больше. И подойти к колонке было трудно, и особенно трудно было вынести воду, не разлив.
Несколько раз приходилось набирать снег, но у талой воды был противный привкус мыла.
По лестнице идти тоже стало труднее. Ведь не я один таскал воду и нечистоты. И разливали и роняли... И все это замерзало на ступеньках.
Мороз-то был неслыханный. Правда благодаря этому морозу заработала 'Дорога жизни'. Думаю, что без нее не выстояли бы - на баржах столько б привезти не получилось.
С возрастом, чем дольше я живу, тем сильнее чувствую вину перед братом, за то, что во время страшного голода я ненавидел брата за то, что он по решению мамы отрезал себе хлеба чуть больше - на несколько миллиметров - чем мне и маме. Я сидел рядом и как затравленный зверек смотрел на ломтики хлеба. А у него ломтик всегда был больше - на несколько миллиметров!!!
Внутри все кипело и негодовало, хотя я прекрасно знал - что если что-нибудь случится с братом - нам конец.
Вот ведь - тебя спасают из последних сил, рискуют своей жизнью, а ты ненавидишь своего спасителя. Хотя ты - без этого спасителя - ничто.
Сколько же всего брат вытянул на своих плечах....
Я уже не мог затаскивать воду на четвертый этаж без того, чтоб не помогать себе руками, подтягивая тело, держась за перила. Идти не получалось, ноги были ватные и как-то словно онемели, практически втягивал себя на каждую ступеньку. Всякий раз, когда шел за водой - проходил мимо горящего дома - разбомбленное задание на углу Разъезжей улицы горело практически месяц. Неторопливо, размеренно - сверху вниз... Внизу располагалась библиотека - и библиотекарши вытаскивали книги на улицу, просили прохожих забрать кто что сможет - чтоб книги не сгорели. Брат рассказал, что Гостиный двор тоже очень долго горел. Тушить было нечем и некому - стараниями фрицев пожаров в городе было столько, что пожарные работали только на стратегически важных объектах. До жилых домов уже руки не доходили.
Однажды я выносил нечистоты - и упал. Я не помню, поскользнулся или споткнулся, но упал головой вперед. Ведро запрыгало по маршу вниз, ноги оказались выше головы, а я понял, что мне не встать. Как я ни старался подняться - никак это не получалось. Руки подламывались, подтащить ноги тоже не выходило. После долгой мучительной возни кое-как встал, цепляясь за ограждение, совершенно выбившись из сил. Содержимое параши разлилось по ступенькам... Домой вернулся страшно расстроенный, хотя никто меня не 'застукал'.
Перед Новым 1942 годом в дом привезли папу. Сослуживцы его видели, что он уже не жилец и сделали все, что могли, чтобы хоть дома умер.
Папа мне сказал, что если мы встретим Новый и Старый новый год - все будет хорошо.
Он слег сразу и встал только один раз - к 'праздничному столу'. По причине праздника горела и буржуйка и коптилке, мы шиковали. (Электрические лампы при включении давали такой накал, что в темноте чуть было видно красноватую нить накаливания)
На столе была бутылочка пива, которую выдали по карточкам, не помню уж взамен чего.
Папа стал настаивать, чтобы брат поделился пряником, который тот выкупил на хлебные талоны своего пайка - перед новым годом дали такую возможность получить вместо хлеба пряник - брат и меня спрашивал заранее, но я отказался на такой обмен - хлеба получалось больше.
Брат отказался, папа обиделся, стал возмущаться...
Праздничного настроения естественно не было.
Папа был неузнаваем...
Когда разлили всем пива, и я его выпил, то сразу отключился...
Мама рассказывала, что я тут же сполз под стол, как тряпичная кукла. Проснулся уже утром.
После Нового года мы с папой были дома. Он не мог встать, я за ним ухаживал, как мог...Что-то делал по хозяйству, брат мне давал задания и я старался их выполнить - побаивался брата, он был со мной строг...
13 января, ровно в полдень, отец меня подозвал, что-то пытался мне сказать, но говорил так тихо и бессвязно, что я его никак не мог понять. Я даже влез на его кровать, приблизил ухо к его губам, но ничего не мог разобрать.
Вдруг он замолчал, по лицу прошли судороги, и я понял, что папа умер.
До старого Нового года он не дотянул 12 часов.
Накануне вечером мама кормила его 'супом' - размоченными в кипятке крошками - и он ей сказал, что такого вкусного супа он никогда у нее не ел, и чтобы она всегда готовила такой суп...
Мама пришла с работы и как-то не удивилась тому, что отец умер...
Никак не отреагировала.
Похоже, она все поняла еще тогда.
Когда его привезли сослуживцы...
А может, уже и сил не было на эмоции...
Он пролежал у нас в комнате до 1 февраля. Мы использовали его продовольственную карточку. А потом обмотали его тело чистой простыней, что была получше, уложили на сцепку из двух саночек и поволокли эти саночки по лестничным маршам...
Я попытался помогать, но меня оставили дома - я, похоже, уже тоже был плох...
Было грустно и пусто без папы. И очень холодно...
Его отвезли на сборный пункт - на ипподроме, где сейчас ТЮЗ.
Надо сказать, что папа у меня был замечательный. Добрый и очень заботливый. Он все время что-то приносил в дом - нам. Отрывая эту еду от себя, чтоб поделиться с нами то фуражной чечевицей, то казеиновым клеем, то жмыхом. А ведь сколько было случаев совсем другого поведения.
Мама считала, когда он притащил буржуйку и стал ее устанавливать, что это ни к чему, на что он твердо ответил: 'Зима будет тяжелая. Буржуйка необходима'
Скоро и я слег. Некоторое время я еще как-то ползал по дому, а потом и на это не осталось сил. Просто ноги не держали, я не мог не то, что ходить, просто стоять. Лежал под несколькими одеялами и пальто, одетый по - зимнему. В ушанке. Сна не было, были спазмы голода и круглосуточный пунктир забытья и лежания в темноте с открытыми глазами. Это время я запомнил как очень темное. Иногда зажигалась коптилка, иногда горела буржуйка - но темнота была все время. Окна были заделаны одеялами для светомаскировки и тепла, и открывался только маленький кусочек.
Я уже был 'не жилец' и знал это. Но это уже не пугало. Лежал в полном безразличии с крутящими болями в брюхе и когда был свет - рассматривал свои ногти. Мама и брат сердились на меня и ругали - чтоб я этого не делал. Они слышали от соседей, что это верный признак скорой смерти.
На наше счастье стекла нам вышибло только в 1943 году. Тогда же здоровенный осколок вынес в нашей комнате подоконник с куском стены и батареей отопления. А ведь у многих еще в 1941 были выбиты окна...
Налетов вроде не было, да и обстрелы то ли были вдали, то ли я их так уже воспринимал...
Однажды слышу, заходит соседка - Елена Людвиговна, подруга моей мамы. Спрашивает: 'Что Алик умирает?'
- Да - отвечает мама.
Для меня это не было секретом, я очень здраво понимал свою обреченность.
- Тут одна спекулянтка предлагает овес, горчичное масло и сахарный песок. Может, купите?
Меня поразило, как молнией - надежда появилась!
Мама купила весь этот 'продуктовый набор' за имевшиеся у нас ценные вещи...
Это без шуток был для меня из ряда вон выходящий момент воскрешения. Да и пайки стали увеличивать.
Месяца два я учился ходить, покуда хватало силенок, опираясь всем телом на стол.
И когда смог сделать первые самостоятельные шаги на ватных 'не своих' ногах - это тоже был очень радостный момент.
После этого в моей жизни были и хорошие, радостные моменты (и я их помню) и жуткие, совершенно безвыходные ситуации (и их я тем более помню), однако более сильного в эмоциональном отношении, что было во время блокады - у меня не было...
Шутка ли - второй раз родиться и второй раз научиться самостоятельно ходить...
Как начал ходить - приступил снова к своим обязанностям. Правда, трехлитровый бидон был чересчур тяжел - таскал воду в бидончике поменьше. Ну а нечистот тем более было на донышке. Они примерзали. Поэтому у меня во дворе была припрятана железяка - ею и отбивал со дна...
Тяжело было очень - каждый подъем даже без бидона давался с трудом. И дыхания не хватало и силенок...
И есть все так же хотелось.
К весне снабжение улучшилось, стало стабильным - в самые тяжелые месяца бывало, что и хлеб не привозили и можно было не попасть в число тех, кому доставалось. И нормы увеличились, и продукты стали разнообразные выдаваться.
К этому времени относятся два моих моральных падения, за которые и сейчас стыдно, но из песни слова не выкинешь. Первый раз брат выкупил конфеты. Они были такими веретенцами сантиметра по три длиной каждое. Несколько штук.
Я сидел дома один. Дай, думаю, попробую от каждой конфетки по кончику. Попробовал. Невероятно вкусно! Сладко! От этого вкуса уже и отвык.
У нас был строгий порядок - пайка каждого лежала в определенном месте. И никто не имел ее права трогать, кроме того, кому она принадлежала.
Так было с хлебом и со всем поделенным. Никогда это правило не нарушалось. А тут эти несколько конфет были как бы не распределенными.
Так я к ним и прикладывался, пока они из веретенец не превратились в бочоночки. Для меня это было очень неожиданно - и сам не понял, когда успел их так обточить, попробовал-то всего несколько раз...
Вечером, когда мама пришла с работы и все это увидела, сказала только: 'Ты думаешь, мы не нуждаемся в сладком? Ты поступил по отношению к нам очень плохо'
Больше ни она, ни брат не распространялись на эту тему. А 'бочонки' тем же вечером поделили. Пожалуй, мне больше никогда в жизни не было так стыдно...
Второй раз подобный же казус произошел с мясом. Брат выкупил мясо - по - моему, это был конец марта - начало апреля. Кусочек был маленький, грамм 300. И опять же не деленый. Меня это и подвело.
Я отрезал от него тонюсенький прозрачный пластик. Больно уж кусочек мяса выглядел аппетитно. Отрезал, благо в комнате было так холодно, как в морозильнике. Мороженое мясо резалось легко.
Сырое мясо оказалось очень вкусным. Я даже удивился, зачем его варят. Оно же и в сыром виде вкусно!
Не помню, но, похоже, я отрезал еще пластик и еще...
Когда с работы пришла мама и я ей повинился, она сказала, что, во-первых, рассчитывала сварить суп дважды, а осталось только на один раз, а во-вторых, в сыром мясе могут быть личинки глистов и поэтому его есть так очень опасно. Второй довод оказался очень действенным - больше никогда не ел сырое мясо.
С наступлением весны у нас стали качаться зубы и на деснах появились очень болезненные язвочки. Цинга. А у мамы язвы появились и на ногах.
Она даже слегла на несколько недель.
Зато возобновилось движение трамваев. Это был праздник! Мы даже с ребятами несколько раз съездили на Ржевку - за порохом. Вот ведь - еле ноги волочил - а за порохом поехал.
Немцы усилили артобстрелы. Теперь город обстреливали особенно жестко утром и по вечерам - когда люди ехали и шли на работу и ехали с работы. Работали артиллеристы профессионально - рассчитывали и пристреливали трамвайные остановки, людные места, очереди у магазинов. По другим объектам - рынкам, госпиталям, больницам, школам - тоже продолжали работать.
Брат однажды прибежал в шоке, весь в крови - снаряд ударил в вагон, где он ехал и осколки скосили стоявших перед братом пассажиров - они его своими телами прикрыли (утром у Московского вокзала это произошло).
Его одежду надо было постирать - он был весь в крови, а для этого и воды понадобилось много, и мама лежала больная. Мороки было много, но главное - его не зацепило, повезло.
Примерно в то же время я тоже попал под обстрел и тоже в районе площади Восстания. К моему счастью я тогда не дошел до угла Лиговки и успел приткнуться у бордюрного камня на мостовой проспекта 25 Октября (сейчас - Невский проспект). А за углом как раз стояли люди - очередь видимо - и их всех смело первым же разрывом, так что ошметья выхлестнуло из-за этого угла. Шел бы быстрее - попал бы аккуратно под этот разрыв. А так увидел это - и залег.
Я не пострадал, но столько окровавленных разорванных тел меня ошарашили. Запомнился кусок черепа и отрубленная женская рука на трамвайной остановке - туда тоже попал снаряд...
Артиллерийский обстрел обычно велся очередями, с паузами.
Вроде все закончилось, люди начинают движение и тут снова с десяток снарядов. Огневые налеты чередовались с беспокоящим огнем - когда рвались по одному - два снаряда через неравные промежутки времени.
Явно кто-то разрабатывал график огня, рассчитывал по районам. Привязывал к конкретным целям. С учетом рабочего времени, психологии и так далее...
Например, когда становилось ясно, что трамвайная остановка пристреляна - наши переносили ее в сторону. Начиналось все сначала.
Не знаю, как немцы корректировали огонь, но, по-моему, они знали, где остановки и прочие цели достаточно точно. И если госпиталь с места не сдвинешь, то вот откуда они узнавали о перемещении остановок?
Правда, мы с папой - еще осенью - во время налета видели, как кто-то запустил зеленые ракеты - как раз в направлении военного объекта, рядом с которым мы как раз шли. Папа тут же потащил меня прочь - чтоб и под бомбу не попасть и с НКВД не объясняться...
К этому времени мы в квартире остались одни - кто помер, кто уехал.
Например, еврейская семья, жившая по соседству, вымерла практически вся - еще в декабре. Только двое эвакуировались по Дороге Жизни. И дочь уже умерла там - от дистрофии так просто не убежишь, а на первых порах от большого сочувствия, и от малого опыта эвакуированных из города встречали обильной едой. А это часто было смертельно.
Вообще умереть можно было от многих причин. Где-то в декабре 41 папа принес кусочек подсолнечного жмыха - после выжимки масла такое оставалось. По прочности - практически камень, но с изумительным запахом и привкусом подсолнечника, семечек.
Мама принялась его размягчать. Не помню, что она с ним делала, но возилась долго. Мне дали маленький кусочек, и я был целиком занят им.
На следующий день мама сделала из этого размягченного жмыха лепешки, хотя вообще-то получилась коричневатая кашица. Поджарила она это на остатках рыбьего жира, который нашли в семейной аптечке.
Деликатес растянули на два дня. Больше не получилось к нашей грусти. Была даже такая мысль, что после войны не плохо бы почаще готовить такое вкусное кушанье.
И вот после второй трапезы появились позывы к тому, чтоб облегчиться. Вот тут-то и возникли проблемы - тебя распирает, разрывает буквально, а ничего наружу не входит.
Это был жутчайший запор. Только после страшнейших мучений и даже манипуляций удалось избавиться от 'шлаков из жмыха'. Хорошо, что плитка жмыха была маленькая и поделили ее на всех, да и ели два дня, а не съели за один раз. А сколько сил было израсходовано, чтоб освободиться от этих шлаков...
Да чего говорить - любое действие - даже сходить в туалет - в условиях блокады было серьезным испытанием. Случаи, когда люди замерзали на горшке были нередки...Больно уж сил было мало у людей - и наоборот - слишком мощные силы были против...
И все это нам устроили цивилизованные немцы. Меня удивляют разговоры о том, что мы должны были сдаться - особенно после многократной публикации документов о том, какую судьбу нам приготовило немецкое руководство. Удивляет постановка на одну доску наших солдат - и немецких.
Дескать, все были несчастны, их горемык погнали воевать, а они чуть ли не хотели...
Какая дурь...Они воевали с охоткой, изобретательно и весело. И старательно убивали нас. И в плен не сдавались. Хотелось им тут землицы, богатства и рабов.
И все эти вопли об изнасилованных немках...
О нашей вине...
Причем вопят-то как раз не немцы, а наши вроде бы журналисты. Удивительно.
Очень удивительно...
И жаль, очень жаль, что родители этих журналистов не оказались тут - в блокаде...
2. Порох со станции Ржевка.
Весной 1942 года цинга сильно донимала. Качались зубы, на деснах появились маленькие, но очень болезненные язвочки. У мамы язвы появились на ногах.
Где-то с июня месяца мы с мамой получали доппитание. Я в школе, где учился первые два класса, а мама в кафе, рядом с ее работой.
Для того, чтоб получить такое питание, нужно было пройти освидетельствование у врача в своей поликлинике. Выдавали на руки справку, в которой указывалось, что ты дистрофик такой-то степени и нуждаешься в дополнительном питании. Через пару недель надо было проходить повторно освидетельствование. Смешно конечно полагать, что за пару недель можно вылечить дистрофика, но такой был порядок.
Запомнилась тихая очередь из мальчишек и девчонок перед врачебным кабинетом. По внешнему виду можно бы сказать, что выглядели все как старички и старушки, но только очень тихие и малоподвижные.
Питание это - что у мамы, что у меня - представляло собой две лепешки из соевых шрот и стакан либо соевого молока, либо соевого кефира.
Не могу понять, почему у брата не было доппитания. Мы ему приносили лепешки - сами жевать их не могли, было очень больно. По структуре лепешки очень сильно напоминали опилки, но опилки, которые можно было жевать и съесть.
Часам к 12 мы приходили во двор школы. Грелись на солнышке и ожидали, когда нас позовут в столовую.
Весной я был принят в пионеры. Выстроили нас на наружной лестнице школы. Внизу пионервожатая читала слова клятвы, а мы их слово за слово повторяли. Это тоже подняло настроение - как и другие признаки, того, что город оживает понемногу. Да еще потом нас угостили соевым суфле. Редкое удовольствие.
Только вот одноклассников очень мало осталось. Собрали всех из других классов - и то на лестнице было достаточно места.
Весной люди продолжали умирать. Зимой в основном помирали мужчины. А вот весной долго державшиеся женщины сдали. Запомнилось очень сильно, как где-то в конце апреля - начале мая, я оказался на улице Маяковского, почти напротив роддома им. Снегирева.
Там был сборный пункт для трупов. Торцом туда - к ул. Маяковского выходил один из корпусов Куйбышевской больницы (сейчас Мариинская больница ). Этот корпус был сильно разрушен бомбой, а дальше вдоль улицы шел корпус нейрохирургии. Вот как раз у разбомбленного здания и были штабеля трупов. Тела были в разных позах, некоторые в 'упаковке', другие так, как их подобрали на улице или вытащили из мертвых квартир - весной девчонки из МПВО и сандружинницы провели громадную работу по очистке города от трупов, откуда только у них силы брались...
Пока я переводил дух перед тем, как двигаться дальше, как раз девчонки - дружинницы грузили мертвецов на крупповскую пятитонку. Тогда в городе ходили эти здоровенные машины, резко отличавшиеся от привычных трехтонок и полуторок. Они были еще с довоенных времен.
Погрузка как раз заканчивалась. Девчата закрыли задний борт, вся бригада разместилась в кузове прямо на трупах. Кузов был набит полным, с верхом. Трупы сверху ничем не покрывались. Машина вырулила на улицу и поехала от проспекта им. 25 Октября (Так тогда назывался Невский проспект), а у сборного пункта поднялся какой-то шум.
Это было особенно слышно, потому что момент был редким по тишине - немцы не стреляли. К пропускному пункту женщина притянула санки, с сидящей на них старухой. До сих пор удивляюсь, как эта женщина-дистрофик тянула санки с грузом - асфальт уже почти везде был чистый. Снег-то потаял. Мне показалось, что уже эта женщина была не в себе. Старуха была еще живая и изредка слабо шевелилась.
Женщина требовала от санитарок, чтоб ее мать положили к трупам, так как она вечером или утром завтра, но все равно умрет. (Это при живой еще старухе!) Препирательства с дежурными кончились тем, что женщина оставила санки со старухой у ворот и неуверенно побрела прочь. Видно было, что она и сама очень плоха.
Светило солнце, было уже по-весеннему тепло, а главное - было очень тихо и покойно.
Такое случалось нечасто.
Сейчас я думаю, что той старухе на санках могло быть и совсем немного лет. И женщина, притащившая по голому асфальту санки тоже могла быть совсем нестарой. Дистрофия страшно старит...
А мы потихоньку оклемывались. Кто-то из мальчишек притащил артиллерийский порох - такие зеленоватые макаронины - и пугал им девчонок, когда мы в очередной раз ждали открытия столовой. Подожженная макаронина шипела, свистела и даже летала, а если падала на землю - то ползла по ней. Девчонки пугались и визжали. Тихонько, слабо, но все-таки...
Оказалось, что порохом можно разжиться на станции Ржевка. В блокаду это был основной железнодорожный узел в Ленинграде. Где-то в марте немцам удалось очень удачно артналетом накрыть там пару составов с боеприпасами. Но основная катастрофа была из-за того, что рванули несколько вагонов с взрывчаткой - вроде тетрилом. Как сказал один железнодорожник, видевший это - 'огонь перепорхнул по вагонам - тут все и разлетелось'. Взрывная волна была такой, что километра на полтора целых домов не осталось.
Как я слышал, начальнику станции грозило очень суровое наказание - эти злосчастные вагоны не эвакуировали при начале артобстрела и даже вроде не тушили, когда они загорелись. Вот они и грохнули так, что полгорода слышали эти взрывы. Начальника ранило и тяжело контузило, но то, что он показал себя героически, вряд ли бы его спасло.
Спасло его то, что в разрушенном здании станции уцелели документы на эти самые вагоны. Железнодорожникам не нужно знать, что именно в вагонах - потому на документах ставилась пометка огнеопасности груза. Так вот в сопроводительных документах ошибочно вместо высшей категории пожароопасности стояла низшая.
Как если бы вместо тетрила там лежали чугунные болванки. Поэтому начальник остался на своем посту - бездействие по отношении к сверхопасному грузу было признано объяснимым. Но полагаю, что отправители груза так легко не отделались.
Так вот в окрестностях станции и можно было разжиться порохом. Мешочки с порохом - валялись прямо на земле. Снаряды были собраны в кучки - одни снаряды, без гильз.
Мы так ездили на Ржевку несколько раз. Потом остыли к этой забаве - девчонки перестали пугаться, да и станцию почистили. И снаряды куда-то дели.
Примечание сына: Ну, с гильзами все понятно - в блокированном городе гильзы к артвыстрелам были на вес золота и перезаряжались не раз - были специальные снаряжательные цеха. Вроде и снаряды тоже перезарядили тоже, поменяв взрыватели - их делали в Ленинграде.
3. Музей обороны Ленинграда.
В теплый летний день 1942 года мы с ребятами, с которыми ходили в школу на обеды, узнали, что на Соляном переулке представили для обозрения сбитый немецкий самолет и решили посмотреть на это диво.
До Литейного с Лиговки доехали на трамвае, благо с нас никто за проезд не требовал оплаты. Вообще после первой блокадной зимы у выживших было какое-то особое отношение к детям - с нас не брали денег за трамвай (хотя стоило это недорого), в парикмахерских тоже стригли бесплатно... Хотя сейчас, когда смотришь телепередачи о блокаде получается что весь город был буквально наводнен людоедами, которые только и старались сожрать каждого ребенка. Чушь поганая.
В трамвай было трудно залезть, очень непростая задача подняться по ступенькам - сил не было у всех. Но сам трамвай - это было чудо, знак Победы, как бы это патетически не звучало сейчас. Когда их пустили - люди плакали от радости, а вагоновожатые все время звонили в звонок и этот, до войны довольно неприятный звук, казался прекрасным. Он означал, что мы не только выжили, но и выстояли и теперь все будет хорошо.
До Соляного от Литейного добирались пешком. В этом уголке Ленинграда я до того ни разу не был. Переулок был замощен булыжником с уклоном в середину переулка. В конце его - у Гангутской улицы плашмя на земле лежал немецкий истребитель.
Я не знаю, что это была за марка. Самолет поражал своими формами, он был очень изящен и одновременно был хищным и зловещим. Свастика и крест на фюзеляже дополняли впечатление. От него веяло смертью и, несмотря на теплую погоду, словно тянуло холодом.
Приятно было влезть на гремящее под ногами крыло и походить по плоскости. Очень хотелось от души попинать эту машину, но сил на это ни у кого не было. Все очень радовались, что удается справляться с такими смертоносными страшилищами. Даже по виду этого истребителя было видно, что это была опасная и хорошо сделанная смертоносная техника.
Конечно, выставили эту трофейную машину на обозрение, чтоб поднять дух жителей Ленинграда. Интересно, что этот экспонат оказался у стен здания, в котором через 4 года открылся музей обороны Ленинграда.
Возможно уже тогда - пока город еще был в блокаде - прорабатывался проект организации этого нужного музея.
По-моему музей обороны Ленинграда был открыт в 1946 году и вроде вход в него был бесплатным. Входили в него через парадную дверь - с Гангутской улицы. Прямо перед входом стоял громадный подбитый 'Тигр'
Ребята лазали по этому танку, залезали вовнутрь - люки были открыты. Я не залезал, хотя очень хотелось, но ребята рассказали, что внутри все было загажено.
В это время скверик, находившийся между Рыночной улицей и зданием старинной гимназии, был буквально забит трофейной военной техникой. Битком, вплотную дружка к дружке и туда никого не пускали. А снаружи разобрать что-либо было очень сложно, слишком много там стояло всякого - разного.
Внутри поражал громадный зал с металлическими фермами, держащими крышу. Справа от входа на весь торец здания была выполнена грандиозная картина, изображавшая штурм Пулковских высот после мощнейшей артподготовки. На переднем к зрителю крае были выполнены в натуральную величину фигуры наших атакующих бойцов и лежащие в разных позах убитые немцы. Использование настоящей одежды, оружия усиливало впечатление и к слову даже трупы были сделаны очень натурально - не было впечатления, что это куклы, они лежали так, как лежат трупы - как-то по-особому сплюснувшись, как не может лежать живой. Раскромсанное, гнутое немецкое оружие в перепаханных позициях усиливали впечатление правдоподобия и давали особое ощущение мощи удара по врагу...
К фермам был подвешен бомбардировщик, который принимал участие в бомбежках Берлина вроде в августе 1941. Это был дерзкий и неожиданный для немцев налет, они этого никак не ожидали.
Поверьте - это очень большая разница - жить спокойно, и не соблюдая светомаскировки, зная, что ночью будешь спокойно спать в своей постели, а утром, потягиваясь, подойдешь к окну и посмотришь через стекло во двор - или заклеивать окна бумажными полосами - тогда говорили, что якобы это защитит стекла при ударе взрывной волны, но это чушь. (А вот что было полезного - проклеенные стекла не так далеко летели в комнаты и не так ранили - газетные бумажки тут помогали действительно.) Тщательно закрывать тканью окна - чтоб щелочки не осталось для света и каждую минуту ждать воздушную тревогу, чтоб бежать в подвал, где наспех сооружено примитивное бомбоубежище... И понимать при этом, что каждая бомба может быть твоей. Именно - твоей. А уж что делают бомбы с домами - это каждый ленинградец своими глазами видел.
Конечно, разрушительная мощь наших бомбардировщиков была несерьезной - но то, что немцев угостили тем, чем они кормили нас, моральное впечатление от этой бомбардировки - было огромным. И для нас и для немцев.
Жаль, что потом этот великолепный экспонат бесследно исчез после разгрома музея.
В этом же зале по правую сторону стояли наши танкетки, пушки, броневики и танки, а напротив - то же, но немецкое. Конечно, были портреты Сталина, Кузнецова, Жданова.
Напротив входа в этот зал была пирамида из немецких касок. По высоте эта пирамида была метра 4. В основании пирамиды было навалено кучами немецкое стрелковое вооружение - и мне кажется, что оно все было из разных образцов, то есть не одни и те же винтовки и автоматы, а разные модели. Эта пирамида производила очень мощное впечатление.
Этот зал вообще великолепен, в первую голову из-за очень грамотного оформления и подачи экспонатов. Он был очень умело и с душой оформлен. Когда я находился в нем - настроение становилось радостным и приподнятым, гордым за наших воинов, которые смогли нас защитить и отомстить за все наши беды.
Следующий зал - находившийся в таком же промышленного типа ангаре был посвящен подвигу военно-морского флота Ленинградского фронта. Сразу привлекал внимание отличившийся в боевых действиях торпедный катер. По-моему там были представлены и десантные плавсредства. Были прекрасно и старательно сделанные макеты акватории боевых действий с зонами минирования, множество образцов мин, торпед, прочего морского вооружения.
В двухэтажном корпусе 'А' в залах были представлены остальные элементы обороны Ленинграда. У меня осталось впечатление, что для всего, что было выставлено, места было слишком мало. По-моему был такой момент в работе музея обороны Ленинграда, что его закрыли на какой-то период, а когда открыли снова - экспозиция была значительно расширена и стала дополнительно оформлена в корпусе 'Б'.
Тяжелое впечатление оставалось от зала, экспонаты которого рассказывали об артобстрелах города. В стене зала была сделана брешь - как от попадания артснаряда - и сквозь нее просматривался участок Невского (перекресток с Садовой). Были видны разрывы снарядов и попавшие под артобстрел люди.
По-моему в этом же зале был выставлен кусок трамвайного вагона, в который попал снаряд. Тогда в этом вагоне было убито и искалечено много людей сразу... (немецкие артиллеристы старались обстреливать остановки трамваев, и обстреливали в начале и конце рабочих смен и по обеденным перерывам. Соответственно в рамках ГО остановки переносились на другие места и по времени старались не допускать скоплений народа. Но несколько раз немцам удавалось накрыть и людей на остановках, и трамваи).
Музей также был интересен тем, что все аспекты жизни, все фазы борьбы были представлены и экспонатами и фотографиями, великолепно сделанными макетами и картинами.
Был, например такой период, когда на город сбрасывали торпеды на парашютах. В одном из залов такая торпеда с парашютом лежала на полу - из числа тех, которые успели обезвредить. Тут же было указано: в какие места города были сброшены такие подарки и тут же были фото разрушений от них.
Общая экспозиция была и обширна и интересна. От увиденного сильно уставали но хотелось придти еще и еще. Оформление было сделано и со вкусом и с душой. Художники и скульпторы постарались на совесть.
Наверное, потому, что все, что делалось, было очень близко исполнителям.
А недавно я посетил новый музей обороны Ленинграда. Захотел посмотреть выставку 'Поле боя - пропаганда' и вдохновиться для завершения записок о музее.
Конечно, по горячим следам, да еще и с громадным выбором оставшейся на полях только что прошедших сражений техники и оружия работать легче и тот - уничтоженный в 1949 году музей имел гораздо, несравнимо больше экспонатов.
Одних только крупногабаритных образцов нашей и трофейной техники было несколько десятков. Стрелкового оружия - были не сотни - тысячи единиц (это к слову послужило в плане обвинения ленинградцев в подготовке вооруженного восстания против кремлевского руководства). Тысячи экспонатов, фото, документов. Места не хватало.
Трудно сравнивать тот музей - и современный. Это, безусловно, был подвиг - создать с нуля 8 сентября 1989 года на пустом месте новый музей. Но получилась скорее поминальная выставка по тому, погибшему музею.
Однако все значительные события блокады имеют очень мало экспонатов, которые бы в полной мере отразили бы подвиг...Подвиг обороны Ленинграда уникален. Не знаю, с чем его можно было сравнить.
Боюсь стариковского брюзжания 'раньше все было лучше', но конечно современный музей не имеет и части той техники, что была в прежнем. Не говоря уж о 'Тигре' и самолетах, но ведь и другие впечатляли - например французская дальнобойная пушка со снарядами в полтонны. В зале с пирамидой из касок было много артсистем - и наших и врага и контрбатарейная борьба освещалась поэтому очень ясно. Даже коллекция трофейного стрелкового оружия поражала - любое, со всей Европы из всех стран. Наши системы были куда малочисленнее.
Каждый выставочный зал был посвящен отдельной службе - МПВО, Дороге жизни, Медицине, обеспечения населения хлебом, Службе СМЕРШ, Контрбатарейной борьбе, прорыву блокады в 1943 году, Снятию блокады - всего не упомнишь.
И каждый из этих залов был забит, просто забит предметами, относящимися к этой теме.
Множество витрин 1,5х1,5 метра с макетами, где было показано как развивались события.
Запомнился макеты моста, поставленного на сваях в уровне ледового покрытия Невы. В мае 1943 года мост из-за подвижек ледяного покрова стал разрушаться. Тогда сваи срочно стали вынимать и ставить новый деревянный надводный мост. А ведь в мостостроительном отряде были почти что одни женщины.
Этому подвигу посвящался целый зал. И в каждом зале ощущалось какую страшную тяжесть вынесли на своих плечах люди. Почти физически ощущалось.
Конечно, и роль руководителя музея играла значение - Раков был очень грамотным руководителем и команду подобрал замечательную. Разумеется и деньги нужны...Но все-таки художественное чутье, ясная позиция, мастерство - тоже необходимо.
Огорчило следующее. В том - первом музее мне запомнился парадный мундир немецкого офицера, предназначенный для парада по случаю взятия Ленинграда и пропуск в ресторан 'Астория' по этому поводу. Запомнилась эта витрина, хотя тогда немецкие мундиры попадались часто.
Сейчас в музее несколько витрин с мундирами и снаряжением немецких, финских, наших военнослужащих. К чему все это? Быть может это интересно, но какое отношение имеет к подвигу ленинградцев, наших солдат и рабочих? Да еще и расположены мундиры рядышком...
Я не понимаю, зачем это нужно - такие параллельные расположения нашего - и вражеского снаряжения. Мне кажется, что важнее представить теперь в каких условиях холода, темноты, голода находились и защитники, и жители нашего города. У врага условия жизни были куда лучше, их быт с нашим и сравнить нельзя. Я видел фото немецких артиллеристов-дальнобойщиков. Смеющиеся. Сытые молодые ребята. Им было весело, когда из своих крупнокалиберных орудий они долбали по городу. Ведь без особых усилий и напряги - и на первых порах - до развития контрбатарейной борьбы - в полной безопасности они слали снаряд за снарядом и - каждым - попадали в цель. Каждый снаряд - в цель! Как здорово - этому можно радоваться.
Только целью были мы. По нам они долбили днем и ночью. Старательно, добросовестно убивали людей и рвали город. Мало кто знает, что не только дома рушились - грунт нашего города от таких обстрелов тоже ранен - долгое время после войны все коммуникации постоянно портились - потому что даже земля в городе была повреждена и потому местами проседала, рвя и кабели, и канализацию и водопровод...
В том погибшем музее солдат противника был Враг. Враг не имел морального права даже мундиром стоять рядом с чем - либо нашим. Он занимал положенное ему по истории место - под ногами победителей. В нынешней экспозиции - солдат вермахта, финн - какая-то кукла, представленная то в одном, то другом наряде...
Разумеется, им в мерзлых окопах было несколько неуютнее, чем у себя дома, но вот нашей смерти они хотели все без исключения, рвались к захвату новых земель и без раздумий сравняли бы город с землей, разграбив его сначала, как они это сделали с пригородами Ленинграда. То, что там было сотворено, мы видели своими глазами.
Поэтому бредни о гуманизме и культуре гитлеровцев вызывают физическую тошноту.
Нас пришли убивать, делали это с удовольствием - и потому никакого уважения и преклонения перед гитлеровцами быть не может. И нынешняя возня с останками вражеских солдат, создания им мемориалов - глупость. Трупы преступников, убийц, террористов и сейчас хоронятся без почестей, без выдачи родственникам. Вермахт, СС - именно и были армией преступников. Потому - никаких почестей им быть не должно.
Не надо притворяться, что были с их стороны какие-то правила игры, на манер рыцарского турнира. Не надо приманивать следующих таких же завоевателей и обманывать самих себя. Нам не было пощады тогда и случись что - не будет сейчас.
Понятно, что в двух залах не развернуть такой блестящей экспозиции, что была раньше.
Анфилада залов вела посетителей от начала обороны - к снятию блокады...
И колоссальное строительство оборонительных рубежей и защита Лужского рубежа и жуткие свидетельства пещерного блокадного быта, и варварство оккупантов...
Общее ощущение было как от стеклянного человека - были такие экспонаты в Музее гигиены - так же переплетение сложнейших взаимозависимых систем обороны города создавали цельный организм - как и видимые сквозь стекло человеческие органы и системы составляют человеческое тело... Вот этого погружения в ужас и гордость блокады в современном музее нет...
И выставка про пропаганду получилась беззубая и никакая. Ну, немецкие и финские листовки. Ну, наши материалы.
И что?
Да ничего.
А ведь и в плане пропаганды оккупанты проиграли войну. Наши пропагандеры писали такую ахинею, что немецкие и финские солдаты откровенно веселились, читая наши листовки. Несколько раз слышал о том, что тут у нас под Ленинградом эти листовки читали немецкие офицеры перед строем солдат, и только железная немецкая дисциплина не позволяла воинам Рейха кататься по земле от хохота. В то же время немецким листовкам, сулившим молочные реки с кисельными берегами для нашего населения и сдавшихся в плен - бывало и верили. Так что в начале войны немецкая пропаганда одерживала такие же победы, как и другие рода войск.
А вот позже - наша пропаганда сменила пластинку и смогла зацепить немцев за живое. В 1943 году немцы уже не устраивали группового веселья с зачиткой дурацких большевистских листовок перед строем - наоборот солдат, у которого такую листовку находили, получал взыскание. Наши же люди, на деле увидев, что вытворяют немцы и финны в их пропаганду верить перестали.
Как сказал знакомый молодой художник: 'А вот переход от лозунга 'немецкий солдат, ты ж по своему брату пролетарию стреляешь!', на лозунг 'пока вы тут
дохнете, эсэсовцы с вашими женами спят', дал свои результаты. А что поделать, ребятам которые пришли сюда за дармовой землицей и рабами, это было ближе классового сознания. К слову сказать, немецкие агитаторы так и не переключившиеся с 'бей жида политрука', признавали что эту драчку проиграли вчистую, а она не сказать чтоб маловажная была, ага.'
Этого и близко в выставке невидно. Жаль. Почему-то мы должны стыдиться своих успехов, вилять хвостом и извиняться...И еще больше жаль, что геббельсовская пропаганда проиграв во время войны - победила сейчас. Очень горько это видеть.
Так же горько было смотреть, когда громили музей. Это была одна из деталей общего погрома, который Москва устроила нашему городу. Я не знаю, насколько были справедливы обвинения в том, что Ленинград собирался стать столицей РСФСР, что ленинградская партийная верхушка собиралась создать отдельную от Москвы страну и так далее...Часть обвинений была и тогда абсурдной - например, что оружие в музее - для похода на Москву и мятежа. Что бомбардировщик, висящий в зале, предполагалось использовать для бомбежки то ли Смольного, то ли Кремля...
Маленков, руководивший погромом, постарался. В связи с ликвидацией музея корпуса передавались другому учреждению, поэтому для проведения обмеров и сверки чертежей была откомандирована группа техников-строителей. Я попал в эту группу...
Впечатление было ужасающим. Когда нас впустили в музей, там царил хаос. Впрочем, музейные служители были на своих местах и смотрели, чтоб ничего никто не вынес.
Смотрели, как чужаки громят их детище. Работали какие-то люди, вроде прибывшие из Москвы.
Во дворе были кучи пепла и там жгли документы. Бесценные уникальные бумаги - дневники, письма, официальные разные бланки и листы. Знаменитый дневник Тани Савичевой - случайно тогда уцелел...
Сколько таких же пронзительных, рвущих душу записей спалили - неизвестно.
В залах уже резали 'на мясо' технику. Мне было и тогда непонятно и непонятно сейчас - зачем было уничтожать уникальные образцы. Тот же мотоцикл на полугусеничном ходу, французскую пушку калибром в полметра, лупившую снарядами в полтонны...Самолеты, танки...
По всему залу были раскиданы те самые каски из пирамиды и валялись фигуры с диарамы. Потом с фигур посрывали одежду и все сгребли в кучи - иначе было очень непросто ходить по заваленным залам. Потому что все было раскурочено - во всех залах.
Музей именно уничтожался. Обычно ведь если музей прекращает свое существование его фонды распределяются по другим музеям или коллекционерам. Тут только жалкие крохи ушли в Артиллерийский музей, Военно-морской и Железнодорожный. Все остальное именно ликвидировалось, чтоб духу не было.
Так погиб музей, делавший благородное дело, вызывавший гордость и уважение к тем, кто победил орду убийц и грабителей. Он воспитывал гордость за свою страну, за свой город-герой.
Этого в нынешней выставке нет. Но хорошо, что хоть такая есть. Хоть что-то...
4. Снарядик.
Зимой 1945 года я учился в школе, что напротив завода Сан-Галли. Это было время, когда было и голодно и холодно. Война завершалась, уже было ясно, что наша победа неотвратима и все ее ждали с нетерпением, но жилось очень нелегко.
Дома отопление отсутствовало - в блокаду все радиаторы замерзли и полопались. Все отопление сводилось к топке нескольких утюгов, рассчитанных на древесный уголь. (Мама его где-то доставала в небольших количествах). Буржуйки у нас не было - ее кто-то у нас украл, мебель всю, что можно, сожгли в блокаду. Вот и грели утюги, когда был уголь, на манер японских жаровень. Толку от этого было совсем чуть, но все-таки теплее...
Одежонка у меня была не ахти, зато обувка - высший класс! Ватные бурки в калошах. Тепло и сухо. Эту замечательную обувку - бурки - сделала мне мама.
Учеба давалась не без труда. Очень трудно было сосредоточиться - все время хотелось есть. (Какой дурак сказал, что сытое брюхо к учебе глухо! Голодное куда более глухо.)
Мама на работе покупала у знакомых проводников картошку. Когда мама ее приносила, все мысли были о том, чтоб эту картошку быстрее сварить и съесть. Бывало, набьешь картошкой живот, тяжело, а есть все равно хочется.
У нас в классе у одного из моих одноклассников появились вдруг занятные, раньше не виданные штуковины - маленькие, очень нарядные снарядики. Просто игрушки. Очень красивые.
Однокашник форсил - прямо при нас разбирая такой снарядик на составные части - и на ладони эти детальки - от блестящего взрывателя до шайбочек взрывчатки выглядели очень соблазнительно. А потом так же элегантно и быстро он собирал снарядик снова и прятал себе в сумку. Все это выглядело как цирковой фокус.
Не знаю как другим - хотя посмотреть на этот фокус всегда собиралась маленькая, но толпа дуралеев - а мне чертовски хотелось вот так же ловко заниматься разборкой и сборкой такой замечательной игрушки. Не знаю, чем это меня так поразило - другие военные штучки так не поражали. К пистолетам, которыми хвастались другие ребята у меня, после одного инцидента, никакого интереса не было, да и к прочим военным штучкам тоже - а вот тут загорелся.
От однокашника я узнал, что он раздобыл его в одном из поврежденных 'шерманов', которые были выгружены на 'Московской-товарной' - там было кладбище бронетехники.
Буквально на следующее утро, благо учился во вторую смену, я отправился за 'игрушками'.
Утро было серое и сырое. Редкие прохожие шли мимо битых танков. Делаю рывок, когда никого рядом нет, не без труда забираюсь на танк, у которого открыт башенный люк. Поблизости по-прежнему никого нет. Ныряю в люк. Сердце колотится.
В танке, хотя стенки покрашены белой краской, темновато. Пытаюсь найти вожделенные снаряды - но все гнезда для боеприпаса пустые...
Снаружи ходят люди, разговаривают. Страшно!
Нашел вмонтированный в броню пулемет. Совершенно целый. Вороненая синяя сталь. Штучка, что надо! Плавно ходит, когда им вертишь. Послушный такой. Хочется его забрать с собой. Тут только понимаю, что никаких инструментов не взял. Поиск в танке опять ничего не дал. Голыми руками снять пулемет не получилось...Досадно...
А как хотелось бы!
(Сейчас смешно вспоминать. Хорош бы я был, идущий по Лиговке с пулеметом наперевес...Не говоря о том, что железяка для не вполне оправившегося после блокады дистрофика была куда как тяжеловата. Но так хотелось ее снять и унести домой...)
Дождался, пока рядом никого не будет и, не солоно хлебавши, отправился обратно.
Забираться в другие танки сил не было. Да и люки у них были закрыты. Я же опасался попасться. Мне-то бы ничего не было, а у мамы были бы неприятности.
Поход закончился фуком...
А скоро, придя в школу, я узнал от ребят, что наш одноклассник, которому я позавидовал, отправлен в госпиталь! Ему оторвало кисти рук, выбило глаза и сильно порвало лицо. Не знаю - тот ли снарядик это был, который он так лихо разбирал и собирал в нашей толпе...
Казалось бы после случившегося нужно было б забыть о подобных играх, однако вероятно в этом возрасте у человека чего-то недостает в голове...
5. Как топить плиту толом.
Нашим соседям по квартире предложили огородный участок на ст. Тайцы. Зинаида Григорьевна взяла своего сына Юру - и меня заодно - мы с Юркой дружили. Для того чтоб посмотреть на участки, выделенные работникам Октябрьской железной дороги под огороды, организовали специальный поезд и по свежепроложенной ветке, так и доехали до места.
Хотя была уже поздняя весна 1945 года, место было голое, почти без растительности. Такое было впечатление, что тут все перекопано и трава какая-то клочковатая и кусты жиденькие. Приехавшие железнодорожники разбрелись смотреть на свои участки - вероятно, там были какие-то вешки или другие обозначения.
Когда мы прошли метров 20 от насыпи, я нашел очень красивый снаряд - весь в кольцах с цифрами и делениями. Зинаида Григорьевна его тут же отняла, а мне дала такого пинка, что я отлетел на несколько метров и шлепнулся на землю.
Прямо на РГД.
Новехонькая. Зеленая. Без запала. Я тут же прибрал ее за пазуху. Зинаида Григорьевна этого не заметила, но как-то встревожилась. Отправила нас с Юркой обратно к насыпи, велела никуда не отходить, а сама прошла еще дальше.
Пока мы ее ждали, я нашел у насыпи немецкий погон - черный с широким серебряным кантом, человеческий череп без нижней челюсти с черной жижей внутри и пару немецких подковок на каблук, аккуратно перевязанные веревочкой. На Юрку больше впечатления произвел череп - явно молодого человека, с отличными зубами, а я был рад подковкам - каблуки у меня почему-то снашивались быстро, а с такими подковами эта проблема снималась. И действительно, приколотив дома подковы, я больше о каблуках не думал. Разве что ходить было очень шумно, а на экскурсии в Русском музее пришлось ходить на цыпочках.
Вернулась Зинаида Григорьевна. Ей что-то там сильно не понравилось, и от участка она отказалась. Наверное, и правильно, так как потом из тех, кто там ухаживал за огородами, были подрывы и жертвы.
А РГД дома я разобрал. Тол решил с пользой спалить в кухонной плите - по недостатку дров. Вот тут-то я и влип. Вместо спокойного, даже меланхоличного горения, взрывчатка буквально полыхнула. Горение сопровождалось зловещим воем, кухня заполнилась черным едким дымом, который и по квартире расползся. Кухонная плита раскалилась докрасна. Одним словом - жуть!
После этого эксперимента я некоторое время не мог придти в себя. С месяц в квартире держался запах горелого тола, что вызвало у соседей по коммунальной квартире резкие замечания. Хорошо еще соседки не поняли, что воняет взрывчаткой...
Больше я тол в кухонной плите не жег.
6. Военнопленные.
От моего дома до школы было метров 300. Зимой 1945 года трамваи ходили редко и утром были забиты битком. Поэтому я приспособился подъезжать на 'колбасе' часто ходивших грузовых трамваев - как и всякий уважающий себя лиговский мальчишка.
Затрудняюсь сказать, откуда взялось такое название для этого способа езды - может быть из-за шланга для сжатого воздуха, торчавшего из торца вагона. А может из-за порожка по низу торца...Принцип был прост - вскочить на ходу на эту приступочку и держась за шланг ехать куда нужно. На мальчишек смотрели сквозь пальцы, подобная езда взрослых - осуждалась.
Грузовые вагоны утром развозили пленных немцев на работы. Они разбирали завалы и строили новые дома - и сейчас в городе эти дома стоят. Стояли немцы на открытых платформах вплотную, наверное, так было теплее - одежка-то у них была никудышная - пилотки, шинели. А зима была хоть и не такой свирепой, как в 1941 но по -20 бывало, особенно утром.
Почему-то мне казалось, что если я навернусь, прыгая с колбасы на ходу, то они этому порадуются. Радовать их - врагов - категорически не хотелось, и я прилагал все силенки и все умение, чтоб не опозориться в глазах фашистов.
В то же время пленных было жалко. Двойственное они вызывали чувство.
И видимо не у меня одного. Коллеги, побывавшие в немецком плену, рассказывали, что получить камнем от немецкого мальчишки - было совершенно обыденным делом. А уж побои и глум со стороны конвоиров - было еще более обыденным.
Я один раз видел сцену, когда немец валялся ничком у входа в барак, а трое конвоиров кричали ему, что б он вставал и шел в помещение, попинывая его сапогами - не пиная, а именно пихая. Немцев содержали в зданиях конюшен - до войны на площади, где сейчас ТЮЗ был ипподром. В блокаду там был сборный пункт - свозили туда трупы. Туда же брат и мама отвезли умершего моего отца. Там же после блокады в конюшнях разместили пленных.
От этой сцены - тоже было какое-то двоякое ощущение...С одной стороны я понимал, что этот немец - соучастник блокады и будь он конвоиром наших пленных - то не стесняясь пинал бы от души без зазрения совести, а то и просто пристрелил бы, с другой - ну не одобрял я наших...Нехорошо как-то...
Весной 1945 года - еще до Победы в Ленинграде было устроено шествие военнопленных - не такое громадное, конечно, как в Москве, но впечатляющее... Они шли мимо Витебского вокзала. Немцы шли молча. Понурясь. Конвоиры скорее охраняли их от населения - да и вряд ли кому из немцев пришло бы в голову бежать. Люди, смотревшие на фрицев, в основном молчали. Вот кто ругал и проклинал - так это инвалиды. Если б не образцовое выполнение конвоем своих функций немцы бы точно получили бы по шее костылями. Но конвойные так оберегали пленных, что потом уже ругали больше их, чем немцев.
Я в это время думал, что повезло фрицам - они убивали наших, получали за это награды, а вот теперь идут здоровенькие, живые и за свои подвиги не несут никакого наказания...
С одеждой и обувью тогда было очень трудно. Мама мне отдала свою форменную черную гимнастерку со стоячим воротником, а подпоясаться мне было нечем. Без пояса вид был корявый, да и поддувало. Но ремней после блокады не осталось, их сварили, а веревкой, как граф Толстой опоясываться было неловко - засмеяли б. Кто-то из чубаровских надоумил - выменять на хлеб у пленных немецкий ремень.
Я начал собирать хлебные и булочные кусочки, которые я получал в школьной столовой. Когда накопилось с полбуханки, я отправился на Московскую улицу (совсем близко от нынешней ст. метро 'Владимирская'). Там команда военнопленных разбирала завалы разбомбленного здания.
Обойдя конвойного, я прошел вглубь развалин и столкнулся там с молодым немцем. Волновался я страшно. Вся немецкая грамматика улетучилась и я только и выпалил единственное что в голове удержалось: 'Римен?' Немец тем не менее прекрасно меня понял, я получил кивок согласия и снятый тут же при мне ремень с бляхой. Я отдал кулек с хлебом.
Наверно ему эта полбуханки была на один зуб, но время было голодное для всех и даже такое количество пищи ценилось высоко.
А я стал ходить подтянутым, с отличным ремнем. И с бляхой 'Готт мит унс', что как-то упустил из виду. Ну, как только в школе я попался на глаза завучу, мне был тут же предъявлен ультиматум - чтоб этой бляхи больше никто не видел. Ленинградцу такое носить не к лицу.
Пришлось менять бляху на добытую окольным путем пряжку...Пришил я ее некрасиво, но прочно. И ремень служил мне очень долго.
Тем временем сдалась курляндская группировка, и пленных стало заметно больше. Видимо капитуляция была почетной - потому как рядовой состав имел право носить всякие цацки. А у офицеров было право на холодное оружие, как говорили взрослые. Правда, лично я не видел офицеров с кортиками на боку, но вот награды немцы первое время носили. Потом перестали - нет смысла таскать награды на работу по разборке разбитых домов или на стройке.
Четко была видна разница между солдатами и офицерами. Не видал, чтоб офицеры работали - они только командовали, а работали солдаты. Причем на грязноватом, зачуханном фоне солдат офицеры выделялись какой-то ухоженностью, отглаженностью, форсом и респектабельностью. И я к ним относился с особой неприязнью, как к настоящим высокомерным фашистам. И это чувство так и осталось.
Чем дальше - тем меньше немцев охраняли. Конвоиров при них становилось все меньше и меньше. По-моему бывало так, что немцы ходили без конвоя, под командой своего старшего. Во всяком случае я видел, как раз на Невском проспекте, напротив Дома творчества Театральных работников как двое военнопленных, шедших без конвоя, приветствовали нашего старшего офицера с золотыми погонами - и тот козырнул в ответ.
Возможно, конечно, что эти немцы были из антифашистского комитета или еще откуда, но что видел, то видел - и было это осенью 1945 года. Мы как раз вернулись из совхоза, что располагался на площадке Щеглово, что за Всеволожском. Школьников посылали туда работать. Нас разместили в количестве 20 человек мальчишек над конюшней - там, где хранилось сено. Первое утро было яркое, отличное и мы - несколько человек вылезли на солнышко - там как раз был такой балкон для погрузки сена.
И тут из-за угла совершенно неожиданно вывернуло трое немцев - причем со знаками различия и наградами. Мы несколько оторопели, но самый шустрый из нас тут же ляпнул, встав по стойке смирно 'Хайль Гитлер!'
И получил тут же в ответ короткое рявканье на чистом русском языке: 'Чего орешь, дурак!' от одного из немцев. Мы были огорошены!
Оказалось, что вместе с нами в селе работают немцы - из курляндской...А этот парень - прибалтийский немец, переводчик.
Работая практически вместе, конечно общались. Немцы немного учились русскому (больше всего им не нравилось слово 'тафай-тафай'), мы - немецкому.
Как-то раз мой приятель похвастался новым словечком - 'фрессен' - жрать.
Что и выложил, когда мы шли на работу, заявив, что очень хочет жрать. Рядом шедший немец тут же учительским тоном разъяснил, что это 'пферде фрессен, абер маннер - эссен' И продолжил далее, что это звери жрут. А люди - едят.
Таким образом происходило общение с людьми, которые если б не попали в плен с большим удовольствием нас угробили...
Жили немцы в сарае, который стоял в чистом поле. Пленных было с полсотни. Сарай был окружен крайне убогой оградкой с символической колючей проволокой. При этом проскочить сквозь эту ограду было простейшим делом, но немцы нам на удивление старательно ходили только через воротца. Еще из культурных мероприятий был устроенный на самом видном месте насест над ямой - для оправления соответствующих нужд. Почему-то немцам больше всего нравилось сидеть там на закате, подставляя голые задницы последним лучам солнца. Большей частью они работали с нами по прополке капусты. Кто умел что-либо делать - работал в мастерских.
Работали они старательно, очень медленно и обстоятельно. Мы же старались сделать норму как можно быстрее - до обеда, чтоб потом бежать купаться. Мы думали, что немцы специально работают так тягуче - экономя силы, или не хотят выкладываться в плену...
(Когда сын копался и медлил, я всегда говорил ему, что он работает как немецкий военнопленный.
А он насмотрелся в Германии, как они работают на воле - оказалось точно так же тщательно и страшно медленно...Похоже, менталитет такой...)
Бывали и другие непонятности - у меня были неплохие отношения с двумя столярами, работавшими в столярной мастерской. Однажды я принес сляпсенный симпатичный кочан капусты. В мастерской был только один немец и я сказал ему - что кочан им на двоих - половина ему, а половина напарнику.
Очень удивился, услышав ответ: 'нет, эта капуста моя!'
Какое к чертям 'майне' - я же обоим принес! Но на мои высказывания он отвечал по-прежнему, а потом окончил дискуссию, спрятав кочан в свой шкафчик.
Мне эта выходка очень не понравилась, и появилось какое-то брезгливое отношение к человеку, который не пожелал делиться с напарником. Голода-то уже такого не было, тем более что пленным отдавали то, что оставалось от наших завтраков, обедов и ужинов.
После этого я уже в столярную мастерскую не ходил. Противны мне стали работавшие в ней фрицы. Кузнецы, правда, держались дружнее и очень любили показывать хранившиеся у них в портмоне фотографии.
Удивляли и добротные дома и автомобили и многочисленные родственники, которые улыбались и смеялись на всех снимках. Для нас, хлебнувшей лиха ребятни, это было дико и внове и думалось - какого рожна они перлись к нам - чего им не хватало?
Правда, судя по тому, что когда один из них захотел продать местным свою шинель, он привлек меня в качестве переводчика, а не своего камерада-прибалта, у них там тоже всякие отношения друг к другу были.
А в 50 годы немцы стали возвращаться в Германию. На Московском вокзале я часто видел готовые к отправке команды военнопленных.
Что меня удивляло. Так это то, что их одежда (в основном форма) вся латанная-перелатанная, но была идеально вычищена и отутюжена. Это внушало уважение.
Замечу, что ненависти при общении с живыми людьми не было. Но и дружить с ними не тянуло. Подсознательно все то зло, что они и их товарищи причинили нам - ощущалось.
И не исчезало.
7. Казнь 05.01.1946г.
В начале января 1946 года неподалеку от Кондратьевского рынка на площади поставили виселицы. Суд над 11 немецкими военными преступниками шел долго. Во всех газетах делались подробные отчеты, но мы с мамой их не читали - чего перечислять, кого и как они убили...Мы же своими глазами видели как немцы обращались с мирным населением и нового ничего нам не сообщали. Ну, нас расстреливали с самолетов и из дальнобойных орудий, а крестьян на Псковщине - из винтовок и автоматов - только и разницы. Немцы-то те же были.
Но посмотреть на казнь я пошел, тем более, что и дела были в этом районе. Толпа собралась приличная. Привезли немцев. Они держались спокойно - да в общем у них выбора не было. Бежать было некуда, а собравшиеся люди практически все были блокадники и ничего хорошего немцам бы не светило, попади они в толпу. Да и на сочувствие рассчитывать им не приходилось.
Объявили: что и как эти осужденные совершили. Меня удивил капитан - сапер, убивший собственноручно несколько сотен мирных жителей. Это меня поразило - мне казалось, что сапер - строитель, не убийца, а тут он сам - без какого-то принуждения по своей охоте своими руками убивал людей, причем беззащитных, безоружных - и ведь там и мужиков было мало - в основной -то массе - женщины и дети... Ну пехота - ладно, но чтоб сапер...
Машины, в кузовах которых стояли немцы, задним ходом въехали под виселицы. Наши солдаты - конвоиры ловко, но без спешки надели петли на шеи. Машины не торопясь поехали на этот раз вперед. Немцы закачались в воздухе - опять же как-то очень спокойно, как куклы. Немного завилял в последний момент тот самый капитан-сапер, но его придержали конвоиры.
Народ стал расходиться, а у виселицы поставили часового. Но, несмотря на это когда я там проходил на следующий день - сапоги у немцев уже были подпороты сзади по швам, так что голенища развернулись, а мальчишки кидали в висельников кусками льда. Часовой не мешал.
А потом часовой был снят с поста, а с висельников кто-то снял сапоги. Так и висели в носках...
Недавно посмотрел по телевизору воспоминания артиста Ивана Краско. Он, оказывается тоже там был. Но впечатление сложилось по его рассказу, что мы были на разных казнях - он сказал, что немцы выли и визжали, валялись по земле и их конвоиры волоком тащили под висилицы и торопясь неловко совали головы в петли, а народ был в ужасе от этого страшного зрелища и сам Краско тоже был в ужасе...
Откуда он это все взял? Никто в ужасе не был. Практически каждый, стоявший в толпе по милости таких немцев потерял кого-то из друзей и родственников. Да веселья не было, не было ликования. Была мрачная горькая удовлетворенность - что хоть этих повесили.
И немцы умирали достойно. Правда, некоторые обмочились - это было видно, особенно когда они уже висели. Но я слышал, что это часто бывает у висельников...
Но вот что точно - никто на их фоне не снимался с радостными рожами. А они очень часто запечатлялись на фоне висилиц с нашими людьми. Им это нравилось.
Еще стоит добавить, что моя знакомая - она была постарше меня и стояла в толпе ближе (определенно Ленинград - большая деревня!) - рассказывала потом, что хотели вроде, чтоб от народа выступила пострадавшая от одного из этих немцев женщина-псковитянка.
Она осталась жива, правда ее долго мясничили, отрезали грудь, а потом схалтурили и не добили толком, и она выжила. Но когда она увидела своего палача, то ее буквально заколотило и стало ясно, что выступать она не способна. Так что вроде один человек из толпы и впрямь был в ужасе. Только не от казни, от вида цивилизовавшего ее немца...
(Примечание сына.
Я решил сходить в Публичную библиотеку и покопаться в газетах того времени. Да, практически каждый день - вплоть до казни - газеты помещали отчеты из зала суда. Читать это душно. Злоба душит. Причем даже при суконном языке судейских и таком же суконном языке журналистов.
Нам который год ставят в вину 24 убитых черт знает кем немцев и немок в деревне Неммерсдорф...У нас только на Псковщине таких Неммерсдорфов были сотни...Причем сожженных дотла...Вместе с жительницами. Над которыми сначала глумились, насилуя тех, кто помоложе и покрасивее, хозяйственно забирая что поценнее...
А еще и дети ведь там были. Короче, чего там.
Вот список повешенных:
1. Генерал-майор Ремлингер Генрих, родился в 1882 году в г. Поппенвейлер. Комендант г.Псков в 1943-1944 годах.
2. Капитан Штрюфинг Карл, родился в 1912 г. В г..Росток, командир 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
3. Оберфельдфебель Энгель Фриц родился в 1915 г в г..Гера, командир взвода 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
4. Оберфельдфебель Бем Эрнст родился в 1911 г. В г. Ошвейлебен, командир взвода 1 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
5. Лейтенант Зонненфельд Эдуард родился в 1911 г. В г.Ганновер, сапер, командир особой инженерной группы 322 пехотного полка.
6. Солдат Янике Гергард родился в 1921 г. В мест.Каппе, 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
7. Солдат Герер Эрвин Эрнст родился в 1912 г., 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
8. Оберефрейтор Скотки Эрвин родился в 1919 г., 2 роты 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.
Приговорены к высшей мере наказания - повешенье.
Трое других - оберлейтенант Визе Франц 1909 г. рождения, комроты-1 2 батальона 'особого назначения' 21 авиаполевой дивизии.;
И фельдфебель Фогель Эрих пауль, комвзвода его роты, - 20 лет тюрьмы.
Солдат Дюре Арно 1920 г. Рождения из той же роты - 15 лет каторги.
Всего судили 11 немцев. Гадили они в Псковской области, а судили их и повесили в Ленинграде.
Заседания тщательно освещались всей ленинградской прессой, (тогда журналюги работали ответственнее, но видно, что цензура работала серьезно, поэтому описания заседаний и показаний свидетелей нудные и лишены особо жареных фактов. Также видно, что объем материала был колоссальный и журналюги выдирали как попало.
А я как попало надергал из журналюг, потому как массив очень велик и собственно с моей колокольни не имеет большого смысла расписывать все - читать надоест. Всякие мелочи, вроде избиений, издевательств, пыток, повального грабежа имущества, угона скота и изнасилований женщин, сопровождавших ликвидации населенных пунктов - опускаю.
Вкратце о повешенных:
1. Генерал-майор Ремлингер - организовал 14 карательных экспедиций в ходе которых сожжено несколько сотен населенных пунктов на Псковщине, уничтожено порядка 8000 человек - в основном женщин и детей, причем подтверждено документами и показаниями свидетелей его личная ответственность - то есть отдача соответствующих приказов на уничтожение населенных пунктов и населения, например - в Карамышево расстреляно 239 человек, еще 229 загнаны и сожжены в деревянных строениях, в Уторгош - расстреляно 250 человек, на дороге Славковичи - Остров расстреляно 150 человек, поселок Пикалиха -согнаны в дома и потом сожжены 180 жителей. Опускаю всякую мелочь вроде концлагеря в Пскове и т.п.
2. Капитан Штрюфинг Карл - 20-21.07.44 в р-не Остров расстреляно 25 человек. Отдал приказ подчиненным на расстрел мальчиков 10 и 13 лет. В феврале 44 - Замошки - расстреляно 24 человека из пулемета. При отступлении забавы ради расстреливал попадавшихся по дороге русских из карабина. Лично уничтожил около 200 человек.
3. Оберфельдфебель Энгель Фриц - со своим взводом сжег 7 населенных пунктов, причем расстреляно 80 человек и приблизительно 100 сожжено в домах и сараях, доказано личное уничтожение 11 женщин и детей.
4. Оберфельдфебель Бем Эрнст - в феврале 44 жег Дедовичи, сжег Кривец, Ольховка, и еще несколько деревень - всего 10. Расстреляно около 60 человек, 6 - лично им..
5. Лейтенант Зонненфельд Эдуард - с декабря 1943 и до февраля 1944 сжег дер.Страшево Плюсского района, убито 40 человек, дер. Заполье - убито около 40 человек, население дер. Сеглицы, выселенное в землянки было закидано гранатами в землянках, потом добито - около 50 человек, дер. Маслино, Николаево - убито около 50 чел, дер. Ряды - убито около 70 человек, также сожжены дер. Бор, Скорицы. Заречье, Остров и другие. Лейтенант принимал личное участие во всех экзекуциях, всего сам убил порядка 200 человек.
6. Солдат Янике Гергард - в деревне Малые Люзи 88 жителей ( в основном - жительницы) согнаны в 2 бани и сарай и сожжены. Лично убил более 300 человек.
7. Солдат Герер Эрвин Эрнст - участие в ликвидации 23 деревень - Волково, Мартышево, Детково, Селище. Лично убил более 100 человек - в основном женщин и детей.
8. Оберефрейтор Скотки Эрвин - участие в расстреле 150 человек в Луге, сжег там 50 домов. Участвовал с сожжении деревень Букино, Борки, Трошкино, Новоселье, Подборовье, МИлютино. Лично сжег 200 домов. Участвовал в ликвидации деревень Ростково, Моромерка, совхоза 'Андромер'.
Повторюсь - не все писали журналюги и я тоже кусочки надергал, но так в целом картина боле - менее ясная. Причем пунктуальные немцы изрядно наследили - приказы, отчеты о выполнении (сукин сын Зонненфельд явно позорил звание немца - писал, судя по всему округляя, не заморачиваясь подсчетом мертвецов до единиц.).
Мне вспомнилось соревнование Толкинских гнома Гимли и эльфа Леголаса - кто больше набьет орков. Немцы этим тоже грешили, и тут их это сильно подвело - опасно афишировать такие вещи. Ну а уж если на манер Пичужкина ведешь дневник и скрупулезно записываешь: кого и как убил, да еще и чтоб подтверждение подвигу было - не обессудь, если следствие воспользуется твоей писаниной. Своей любовью к порядку в документации немцы себя утопили. Безусловно халтурили - оставляли недобитых свидетелей и те возникали как черт из табакерки в ходе заседаний.
Также дурную службу им сослужила привычка кивать на командование. Закладывали они друг друга по-черному. Ни о каком товариществе и взаимовыручке и речи не шло. Причем начиная от подчиненных - и к командирам. Комично то, что до назначения комендантом в Пскове генерал Ремлингер был начальником тюрьмы в Торгау - а Зонненфельд в это время у него сидел заключенным. И он в зондеркомманде был не один такой.
Примечательно, что у фрицев были адвокаты, и они старались. Например, адвокат генерала упирал на то, что часть карательных подразделений не подчинялись коменданту Пскова.
Но комендант и без посторонней гопоты хорошо поработал.
Впрочем, троих из одиннадцати удалось увести из-под виселицы. Ну, эти трое - дети какие-то, у самого результативного всего 11 лично убитых. Подумаешь, всего-то десяток русских...
Лично у меня сложилось впечатление, что эти части для фронта не годились по причине слабосилия, а вот деревни жечь могли. Вот они и одолевали комплекс неполноценности. А то - после войны заговоришь с фронтовиком - ты сколько Иванов убил - шесть? Ха! А я 312 - и фронтовик посинеет от позора...
Сама казнь проходила в 11 часов утра 05.01.1946 года на площади перед кинотеатром 'Гигант' (сейчас казино 'Конти'). Народу собралось много. Судя по документальной кинохронике, мой отец более точен (правда, у него слипся капитан-пехотинец с лейтенантом сапером) - стояло 4 виселицы (буква П), по две петли на каждой.
Немцы в момент казни были без ремней и шинелей, без головных уборов и наград. Их поставили в кузова больших грузовиков и машины задом подъехали к виселицам. Далее конвой надел петли на шеи и машины медленно поехали вперед. Немцы сделали пару шагов - и кузова кончились. Вели себя и немцы и конвой спокойно, как и публика. Никакого ужаса, воплей, визгов... Ногами немцы тоже не дрыгали. Ну, а насчет снятых сапогов там уже не показывали... Отец рассказывал - Продолжение. Родился я в 1931 году. Поэтому все мое детство попадает на тридцатые годы двадцатого века. Забавно представить себе, что это было больше 70 лет тому назад. Мой папа был служащим Управления Кировской железной дороги, его отдел занимался ликвидацией последствий аварий на Мурманской ветке. Умер от голода в январе 1942 года. Мама - занималась детьми (мной и моим братом), домашним хозяйством, время от времени устраивалась на канцелярскую работу (она окончила гимназию) Брат, старше меня на 5 лет, погиб на фронте в 1943 году. Остальных родственников не помню, многие попали под репрессии, может быть поэтому. Дедушка, бабушка и тетя со стороны отца были сосланы на север в период коллективизации и там умерли. Дедушка со стороны мамы умер от тифа после того, как его, сидевшего в тюрьме и заболевшего там тифом, обменяли на рояль. Умер поэтому дома, на следующий день после освобождения, 1918 год. Арестован был как министр какого-то очередного белого правительства, тогда такие плодились как грибы, вот и ему предложили, как почетному гражданину г. Орел поучаствовать в самоуправлении. Министром чего он был я уж и не помню, правительство это функционировала вроде бы пару недель, потом в Орел пришли красные. Дядя со стороны мамы был командиром красного бронеотряда (какие-то броневики), пропал без вести после ареста в 1938 году. Другой после ссылки в 1920 болел долго туберкулезом. Первое яркое впечатление. Первое яркое впечатление - я в больничной койке. Рядом мама. Я поправляюсь после перенесенного брюшного тифа. Помню врача. Он говорит, что мне уже можно давать кефир. Что может быть вкуснее кефира?! Однако баловали меня кефиром, только пока болел, видно не слишком просто его было доставать. Ведь это был голодный год. Помню, что тот кефир не выливался из бутылки, и его приходилось вытряхивать, постукивая рукой по донышку. Я как завороженный следил, когда же мне нальют этот божественный напиток в чашку. Дом Перцева, (Лиговка, 44) Все мое детство прошло в этом уникальном по тем временам доме. Предприниматель Перцев сделал подарок Советской Власти, 'сдав под ключ' этот гигантский жилой массив в 1918 году. Этот дом, расположенный рядом с Московским вокзалом был сразу отдан в распоряжение Октябрьской и Кировской железных дорог. В нем проживало при мне около 5000 человек. Жили в нем в основном железнодорожники с семьями и какое-то количество работников НКВД. Они резко отличались от железнодорожного люда своей яркой формой и упитанным видом. По Лиговке мимо нашего дома очень часто проходили похоронные процессии. Они направлялись к Волковскому кладбищу и всегда были разные - от скромных, когда гроб везли на грузовой автомашине с открытым кузовом до богатых, когда гроб стоял на роскошном катафалке, запряженным парой украшенных перьями лошадей. (Такой катафалк как раз показан в фильме 'Веселые ребята') Однако я отвлекся. Ребят в нашем доме было много. Грозой ребят были дворники и швейцары. Дворники в основном своем большинстве носившие бороды и потому походившие на карточных королей, держали всю шаловливую ребятню под неусыпным вниманием. Стоило кому-нибудь провиниться, как он тут же оказывался в руках дворника, тот отводил его к родителям на разбирательство. Швейцары (при парадных подъездах) гоняли детей с лестниц на улицу, а на ночь закрывали подъезды на ключ, и припозднившимся жильцам приходилось звонить швейцару, чтоб тот впустил их домой. За 'беспокойство' швейцару тут же платили. По своему тогдашнему возрасту я со швейцарами дел не имел, а дворников остерегался. Играли мы тогда в лапту, в штандер, прятки, салочки и конечно в войну. Праздником для ребят был приезд лоточника с мороженным. Продавец ловко укладывал в специальное приспособление круглую вафельку, клал на нее порцию мороженного, сверху накрывал еще одной вафелькой, и это сооружение, нажав на рычажок, выталкивал в виде аккуратного кругленького мороженного в руки счастливого юного покупателя. То мореженное было особенным - то ли потому, что малых размеров, то ли потому, что делали его из настоящих сливок. Привозили бочки с хлебным квасом - куцые, на двух автомобильных колесах с торца открывался кран и полочка для кружек и мелочи, сама продавщица сидела рядом на стульчике. Из кваса делали окрошку или просто пили тут же. Во дворе все было весело и шумно, но в кругу семьи все сложности того времени о себе напоминали. Родители покупали в магазине сливочное масло, колбасу и сыр помалу, в пределах 100 - 300 граммов, потому, что тогда не было холодильников, да и стоили эти товары дорого. По утрам квартиры обходили продавцы сдобных и французских булочек, пекарня была в нашем же доме, внизу. Молоко приносила знакомая молочница, которая очень плохо владела русским языком, мы ее между собой звали чухонкой. Молочные продукты тоже были недешевы и покупались помалу, в ограниченных количествах. Мама летом как правило не работала, а занималась домашним хозяйством, пока отец работал один, режим экономии в семье особенно ощущался. Запомнилось, что в годы моего детства часто надо было стоять в очередях, как только в магазин что-либо интересное привозили. Как тут же выстраивалась очередь, причемрядом со взрослыми тут же становились и дети. Это позволяло взять товара больше. Товар зачастую очень быстро продавался и те, кому его не хватило, ругали счастливчиков. Очереди всегда были за постным маслом (оно было в большом ходу), его продавали в разлив, за мясом становились в очередь до открытия магазина, тогда можно было выбрать кусочек получше, мясники в ту пору были уважаемыми людьми. Очереди были частым явлением, обычным. Касалось ли это съестного или одежды или обуви. Все жили очень скромно и те, кто мог позволить себе купить велосипед считались богатенькими. Брат. С братом мы посещали довольно часто кино. Запомнился фильм про пионеров, предотвративших крушение поезда и поймавших шпиона. Там были кадры, когда паровоз стремительно несется прямо на зрителей, в зале был переполох, кое-кто шмыгнул под кресло, а мы с братом снисходительно на них посматривали - у нас папа был железнодорожник и нас паровозом было не испугать! Конечно такие фильмы, как 'Волга-Волга', 'Цирк', 'Мы из Кронштадта', 'Праздник святого Йоргена' мы с братом смотрели по нескольку раз. Папа на художественные фильмы никогда не ходил, принципиально. Неизгладимое впечатление произвели на нас Диснеевские мультфильмы. Несколько раз отец приносил с работы однодневные путевки в Сад при Дворце Пионеров, там дважды в день кормили и весь день развлекали. Было очень интересно. Брат меня все время опекал, но был строгим и справедливым. Тогда я многого не понимал и доставлял брату довольно часто огорчения, когда вредничал, бывали с ним и стычки, и мне доставалось от него, как правило. (Если бы не брат, я не пережил бы блокаду). Летом мы втроем с мамой часто ездили на Кировские острова втроем. Мама заготавливала бутерброды, морс в бутылке и мы весь день проводили в прекрасном парке. Садились у Знаменской церкви в новенькие трамвайные вагоны, которые назывались американскими и ехали на полюбившиеся острова. Пожалуй, это были самые безоблачные времена. Аресты. Серьезные опасения переживала каждая семья, когда пошла волна арестов. Мой папа, служивший в занимавшемся инженерными сооружениями отделе Управления Кировской железной дороги, после очередной аварии приходил с известиями, что вот, арестован такой-то. Арестованный просто исчезал, исчезали и члены его семьи. Когда в отделе старых сотрудников осталось совсем мало, папа взял и ушел с этой работы по собственному желанию, пошел работать в организацию занимавшуюся местной промышленностью, там почему-то не сажали. Первым делом он с облегчением снял стоявший у нас телефон (редкая была по тем временам вещь), чтоб больше его не вызванивали, что бывало очень часто и в основном по ночам. После таких звонков папа исчезал на некоторое время, потому как надо было ехать на аварийный участок и обеспечивать восстановление проходимости через аварийный участок. Аварии были часто, инженерные сооружения были в плачевном состоянии, особенно из-за того, что какому-то высокосидящему революционеру пришло в голову пускать особо тяжелые 'революционные' длинномерные составы. На это железнодорожные сооружения рассчитаны не были и стали разрушаться в ускоренном темпе, что приводило к увеличению аварий. Примерно в это время (1938) был арестован наш сосед по квартире. Произошло это ночью. Мне запомнился стук сапог, рыдания за стенкой жены и дочери соседа (моей ровесницы), покрикивания нквдшников, но больше всего испугал напуганный вид моих родителей. Через неделю исчезла из квартиры и жена и дочка. Внизу, под нами, проживал довольно богато видный спец с семьей. Скоро арестовали и его, а семью сослали. Тут же опустевшую квартиру занял красавец НКВДшник с красивой юной женой. Через пару лет он тоже был арестован, а совсем молодую жену разбил паралич. Вместо них заселился другой сотрудник НКВД, но о его судьбе я уже ничего не знаю. Во всяком случае, когда арестовывались сотрудники НКВД, их никто не жалел. По ночам слышались моторы 'воронков'. Состояние даже у меня было такое, что кругом враги, надо помалкивать, делиться мыслями с кем-либо было опасно. Если на человека кто-нибудь писал донос, что было тогда обыденным явлением, то при аресте никто разбираться не будет, правдивый был донос или нет, сначала посадят. Тогда же много народа попало в тюрьму за опоздания на работу - достаточно было опоздать больше чем на 20 минут. Учебные пособия, которые так помогли... Конец марта 1942 года был холодным. Благодаря вовремя подвернувшейся спекулянтке, которая продала маме немного сахарного песку, овса и флакончик горчичного масла я буквально воскрес из мертвых и повторно в своей жизни научился ходить, страшно обрадовавшись тому факту, что смог сам обойти обеденный стол. Как только мне стало немного лучше, брат настойчиво стал пытаться вытащить меня на улицу, но у меня не было сил, да и боялся я, что ноги снова откажут. Однажды брат обратился ко мне с предложением сходить вместе с ним на Гончарную улицу. Там внутри жилого квартала в здании школы был развернут госпиталь, но немцы его разбомбили. Здание сильно пострадало, две стены просто обвалились, но брат приметил там неснятую дверь, которую можно было бы использовать для отопления нашей комнаты. Я решился на это рискованное мероприятие, несмотря на ватные ноги и непомерную слабость. Кое-как после долгого перерыва спустился по лестнице, и мы вышли во двор. Ноги были как не мои, но идти все же было можно. Несколько раз по пути падал, брат довольно ловко поднимал меня за шиворот и снова ставил на ноги. При этом меня он еще и поругивал, что стимулировало собрать силенки и двигаться дальше. Солнечный день, на улице совсем мало людей. Нас обогнала тощая лошаденка, запряженная в розвальни - там военный вез какие-то мешки и ящики. Я еще подумал, что вот лошаденка эта- тоже дистрофичка, а нас обогнала, хотя у нее четыре ноги и у нас с братом - тоже четыре. Шли по протоптанной в снегу тропиночке, я впереди, брат сзади, следил, как я иду. Разваленный бомбой дом производил жутковатое впечатление, с выбитыми окнами и дверьми, обвалившимися стенами. Брат привел к входу, откуда можно было, как он разведал, забраться наверх, несмотря на то, что подъезд был завален грудой битого кирпича и мусором, а лестница большей частью осыпалась. До второго этажа пришлось мне проползти по торчавшим из стен огрызкам ступенек, лестничные пролеты обвалились. А вделанные в стену части ступенек позволяли по ним перебираться наверх. Полз по этим обрубкам с активной помощью брата очень долго. Лестничная площадка устояла и с нее вправо и влево зияли пустые дверные проемы. Влево был виден перемешанный со снегом ералаш из гнутых и покореженных больничных коек с грудами какого-то страшного на вид тряпья, а вправо проем через тамбурок вел как раз туда, где брат приметил дверь. И сквозь оба проема была видна улица - стены то рухнули. Доски перекрытия висели в воздухе и плавно и медлительно пружинили под нами. Сразу за тамбурком мы нашли несколько чудом уцелевших довольно больших деревянных ящика. Сияло солнышко, было очень тихо и морозно, а мы с братом стояли на этом импровизированном колышащемся под нами балконе, который вполне мог под нами обрушиться любую минуту. Но тогда нас это нисколько не заботило. Брат по-деловому вскрыл ящики. Там оказались учебные пособия по биологии и ботанике. Поразило громадное страусиное яйцо, к нашему глубокому огорчению - легкое и пустое - кто-то давным - давно через маленькие дырочки выдул оттуда содержимое. Обрадовала чудесная коллекция всевозможных бобовых и злаковых культур, каждая из которых лежала в своей картонной ячейке под тонким стеклом. Эта коллекция дала нам возможность ознакомиться и оценить эти культуры в вареном виде, и хоть там было по маленькой горстке каждой культуры, находка была замечательной. Поразила коллекция великолепных по своей красоте бабочек, они размещались в аккуратных коробочках, тоже под стеклом. Много было еще всякой всячины, словно сокровища нашли. Но бобовые и зерновые были самым ценным. Дверь снимать и ломать не было уже никакой возможности, да и ломаные доски от верхних перекрытий, щепки от них вполне годились взамен. Набрали полны руки, то есть авоськи, конечно. Надо было теперь выбираться обратно, а это было совсем нелегкой задачей. Во-первых мы оба устали, а я в особенности, во-вторых были нагружены тяжело, в третьих надо было опять преодолеть разрушенную лестницу, теперь уже вниз. С помощью брата под его грозные понукания кое-как спустился. Но очень долго прокорячился, ноги плохо слушались. Когда мы с добычей шли домой уже солнце село, становилось темно. Мама очень обрадовалась, что мы вернулись благополучно, а сваренная из 'коллекционной' фасоли на щепках от досок похлебка получилась невиданно вкусной. И это была только одна ячейка из этой замечательной, несущей нам спасение коллекции.
 |
 |
|



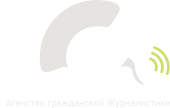

 Добавить новость
Добавить новость
 Шрифт:
Шрифт: 





















